 |
|
X. Отказ от идеала познания
Снижение критической потребности, помутнение критической способности, извращение функции науки -- все это ясно указывает на серьезные нарушения в культуре. Кто полагает, однако, что указав на эти симптомы можно в принципе отвести угрозу, тот глубоко заблуждается. Ибо ныне уже слышны громкие возражения тех, кто воображает себя носителем грядущей культуры; но мы вовсе не желаем, чтобы критическое знание возводилось на престол как судья наших поступков. Наша цель не думать и знать, а жить и действовать!
Именно в этом и заключается стержневой момент кризиса культуры --конфликт между "знать" и "быть". Новым его не назовешь. Принципиальная недостаточность нашего знания стала очевидной уже в младенческие годы философии. Действительность, которую мы переживаем, в основе своей непознаваема, неисследима средствами духа, совершенно отлична от мышления. В первой половине XIX века эта старая истина, знакомая уже Николаю Кузанскому, была вновь подхвачена Кьеркегором. Как антиномия экзистенции и мышления она стала стержневой в его системе воззрений. Он не ушел, однако, с этой истиной дальше углубленного обоснования своей веры. Только те, кто шел за ним следом и независимо от него, но сходным путем, отвратили эту идею от образа Бога, после чего она вязла либо в нигилизме и отчаянии, либо в культе земной жизни. Ницше пытался вызволить человека из его трагического отлучения от всякой истины, предположив за волей к познанию вещей более глубокую подоплеку, волю к жизни, которую он толковал как волю к власти. Прагматизм лишил понятие истины претензий на всеобщую значимость, поместив его в русло потока времени. Истина есть то, что обладает существенной ценностью для людей, ее исповедующих. Нечто есть истина, если и поскольку она имеет значение для определенного отрезка времени. Грубый ум мог бы легко понять: это имеет значение, стало быть, это истина. Следствием этого редуцированного, относительного понятия истины было известное духовное и моральное нивелирование идей, снятие всех различий между ними в градации и ценности. Социологически мыслящие философы, такие, как Макс Вебер, Макс Шелер, Освальд Шпенглер, Карл Манхейм, видели в Seinsverbundenheit des Denkens (обусловленности мышления бытием) исходный пункт, который делал их ближайшими соседями исторического материализма, заключавшего в себе ex professo (по роду занятий) антиноэтическую тенденцию. Так исподволь антиноэтические (5) течения века слились вместе в один мощный поток, который в скором времени должен был расшатать всегда считавшиеся незыблемыми дамбы духовной культуры. Не кто иной, как Жорж Сорель в своих "Reflexions sur la violence" ("Размышлениях о насилии"), извлек из всего этого практически-политические выводы и таким образом стал духовным отцом всех современных диктатур.
Но не одни только диктатуры либо их приверженцы исповедуют подчинение жажды познания воле к жизни. Здесь дело идет о глубочайшей основе всего культурного кризиса. Этот духовный перелом и есть тот самый процесс, что определяет всю ситуацию, в которой мы пребываем.
Кто же возглавлял весь хоровод? Философия? А общество следовало за нею? А может быть, нужно перевернуть это высказывание и выразиться так: философия здесь плясала под дудку жизни. Само учение, которое знание подчиняет жизни, похоже, этого требует.
Отвергала ли культура когда-либо в прошлом познавательный идеал, то есть сам интеллектуальный принцип? Вряд ли удастся найти для сравнения подходящую историческую параллель. Систематический философский и практический антиинтеллектуализм, какой мы сейчас наблюдаем, и в самом деле есть нечто новое в истории человеческой культуры. Спору нет, в истории человеческой мысли не раз бывали повороты, при которых взамен чересчур далеко зашедшего примата рационального постиженияна первый план выдвигалась воля. Такой поворот имел место, например, когда к концу XIII века рядом с идеями Фомы Аквинского утвердились идеи Дунса Скота. Но эти повороты касались тогда не жизненной практики или земных порядков, а веры, устремленности к самым глубинным основам бытия. И совершались неизменно в форме познания, как бы далеко на заднем плане ни оставался разум. Современное сознание легко путает интеллектуализм с рационализмом. Даже те способы духовного постижения, что, избегая пристрастия к логическому анализу и пониманию, хотели с помощью интуиции и созерцания проникнуть туда, куда заказан был путь рассудку, всегда были нацелены на знание истины. Греческое слово gnosis или индийское jnana достаточно ясно говорит, что даже чистейшей воды мистика остается познанием. Ибо кто же, как не дух, движется в мире интеллигибельного! Идеалом всегда оставалось постижение истины. Я не знаю ни одной культуры, которая бы отвергала познание в самом широком смысле или отрекалась от Истины.
Когда прежние духовные течения нарушали клятву верности, обет служения логическому аппарату, разуму, то случалось это ради чего-тосупра-рационального. Культура, в наше время желающая задавать тон, отворачивается не только от рационального, но даже от интеллигибельного, и это ради чего-то инфра-рационального, ради инстинктов и влечений. Она выбирает волю, но не в том смысле, как Дунс Скот, направлявший эту волю на веру; нет, она предпочитает волю к земной власти, "бытие", "кровь и почву" вместо "познания" и "духа" (6).
Остается пока открытым вопрос, в чем именно неизбежное признание Seinsverbundenheit, Situationsverbundenheit (бытийной, ситуационной обусловленности) мышления было прояснением культурного сознания, а в чем оно, понятое слишком категорически, могло быть предвестием заката культуры.
Примечания автора
(5). Я использую это слово потому, что термин "антиинтеллектуальный" успел приобрести чересчур специфический оттенок; здесь же речь идет об общем понятии того, "что противится самому принципу познания".
(6). За ответом на вопрос, как надлежит понимать высказывание Гегеля, что философия есть "ihre Zeit in Gedanken erfaBt" ("эпоха, выраженная в мысли"), я отсылаю к работе: Т h. Li 11. Philosophic und Zeitgeist, откуда явствует, насколько необоснованны апелляции приверженцев философии жизни к Гегелю.
XI. Культ жизни
Модным ученым словечком, которое будет циркулировать в образованных кругах, без сомнения, станет "экзистенциальный". Я уже слышу его повсюду. Вскоре оно достигнет самой широкой публики. Там, где прежде, дабы убедить читателя, что он соображает лучше своего соседа, довольно долго обходились словом "динамичный", теперь говорят "экзистенциальный". Слово это позволит торжественно отступиться от духа, послужит признанием отречения от всего, что есть знание и истина.
Высказывания, которые еще сравнительно недавно сочли бы слишком нелепыми даже для того, чтобы над ними посмеяться, нынче можно слышать в ученых собраниях. Так, на филологическом конгрессе в Трире в октябре 1934 года, если верить газетам, один оратор утверждал, что от науки нужно требовать не истины, а скорее "отточенных мечей". Когда другой без должной почтительности выразился о некоторых образчиках национального толкования истории, председатель упрекнул его в "недостатке субъективности". И это, прошу заметить, научный конгресс.
Так далеко зашло дело в цивилизованном обществе. Не следует думать, что кризис способности суждения ограничивается теми странами, где восторжествовал крайний национализм. Кто наблюдает за тем, что происходит вокруг, то и дело замечает, что у образованных людей, большей частью у молодых, все чаще дает себя знать известное равнодушие к тому, какова доля истины в их идейных представлениях. Нет больше четкого различия между категориями вымысла (fictie) и истории в простом, обиходном значении этих слов. Никого больше не интересует, можно ли проверить духовный материал на предмет его истинности. Самый разительный пример этого -- успех понятия "миф". Некий образ, в котором сознательно допускают элементы желаемого и фантазии, объявляют, тем не менее, "реальностью прошлого" и затем этот образ возвышают до роли путеводной нити жизни, тем самым безнадежно смешивая сферу знания и сферу желаемого.
Как только seinsverbundene (обусловленное бытием) мышление захочет выразить себя в словах, так тотчас же в логическую аргументацию вплетается не встречающая никаких помех со стороны критики фантастическая метафора. Поскольку жизнь не поддается выражению в логических терминах (с чем каждый согласится), тогда, чтобы выразить больше, нежели позволяет логический подход, слово берет поэзия. И так с тех пор, как мир узнал искусство поэзии. Но по мере развития культуры общество стало все отчетливее дифференцировать мыслителя от поэта, отведя каждому свою епархию. Язык современной философии жизни вновь обращается вспять к примитивной стадии, сверх всякой меры усердствуя в поразительной путанице логических и поэтических средств выражения.
В числе последних особенное место занимает метафора крови. Поэты и мудрецы всех народов и поколений, дабы метко выразить в одном слове активный жизненный принцип, охотно использовали образ "крови". Хотя, взятые абстрактно, другие жизненные соки с таким же успехом могут передать идею родства и наследственности, в крови люди видели, чувствовали, слышали ток жизни, в пролитой крови видели убегание жизни, кровь означала мужество и борьбу. Образ крови издревле обладал священным значением, более того, стал выражением глубочайшей божественной тайны. Одновременно понятие крови оставалось многозначащим термином для самых обиходных речений. Но трудно отделаться от мысли о возрождении мифологии, когда мы видим, как в наше время метафору крови включают в юридическое кредо современного государственного устройства, слышим, как министр, представляя новый уголовный кодекс, рассуждает о крови, так что его экспрессии мог бы позавидовать средневековый феодал.
Поборники философии жизни поставили с ног на голову саму иерархию крови и духа. У Р. Мюллер-Фрайенфельса я нашел такое высказывание: "Сущность нашего духа заключается не в чисто интеллектуальном знании, но в его биологической функции как средстве сохранения жизни" (7). Было бы, наверное, небезопасно для автора утверждать то же самое о функции крови!
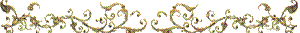
Одержимость жизнью, если выразиться словами ее пророков, следует рассматривать как показатель чрезмерного полнокровия. Благодаря техническому усовершенствованию всех жизненных удобств, благодаря всеми путями повышаемой безопасности существования, благодаря возросшей доступности всякого рода удовольствий, благодаря продолжительное время умножаемому и еще сохраняющему высокий уровень благоденствию современное общество очутилось в таком состоянии, которое древняя медицина назвала бы словом "plethora" (полнокровие). Мы жили в духовной и материальной роскоши. Жизнь ставится нами так высоко, потому что избавлена от всех трудностей. Постоянно обостряющаяся способность познания, легкость духовного общения придали жизни силу и дерзость.
Вплоть до начала второй половины XIX века даже состоятельные слои населения стран Запада сталкивались много чаще и непосредственнее с убогостью существования, нежели мы испытываем ее на себе сейчас, принимая все жизненные удобства как что-то нами заслуженное. Еще нашим дедам было лишь в самой ограниченной степени доступно утолять боль, излечивать раны или переломы, защищаться от холода, прогонять темноту, сноситься с другими людьми лично или передаваемым на расстояние словом, надлежащим образом соблюдать чистоту своего тела, устранять грязь и дурные запахи. Человек постоянно ощущал со всех сторон естественные препоны земному благополучию. Эффективные усилия техники, гигиены и санитарного обеспечения среды обитания избаловали человека. Он утратил эту мягкую резиньяцию, это кроткое согласие с повседневной нехваткой жизненных удобств, усвоенное как необходимый опыт предшествующими поколениями. В то же самое время ему стала грозить утрата способности наивно относиться к счастью, которым удостаивала его жизнь. Жизнь стала слишком легкой. Моральные мускулы человека оказались не настолько сильны, чтобы выдержать ношу этого изобилия.
В прошлые культурные эпохи, будь то христианская или мусульманская, буддистская или любая другая, мы имеем дело со следующим противоречием. В принципе там отрицается ценность земного счастья по сравнению с блаженством на небесах или слиянием с Космосом. Поскольку, однако, все упомянутые религии признают за этим миром определенную ценность, то, признав ее однажды, они не оставляют или почти не оставляют места для отказа от самих жизненных ценностей, дарованных Богом, что было бы, во всяком случае, неблагодарным отвержением Божьих милостей. Как раз эта хорошо известная всем верующим бренность каждого вершка земного благополучия и поддерживала признание его ценности. Твердая ориентация на потустороннюю жизнь могла привести к отказу от мира, но она не допускает никакой Weltschmerz (мировой скорби).
И в наши дни мы имеем дело в этих областях с противоречиями, но совершенно иными, чем прежде. Первое из них сводится к следующему. Возрастание безопасности, комфорта и возможностей удовлетворения своих желании, короче говоря, гарантий обеспеченности жизни, с одной стороны, открыло широкий простор для всех форм девальвации бытия: философского отрицания жизненных ценностей, чисто чувственного spleen (сплина) или отвращения к жизни. С другой стороны, это подготовило почву для всеобщей уверенности в праве на счастье здесь, на Земле. Жизни предъявляются претензии. С данным противоречием связано другое. Амбивалентное положение, колеблющееся между наслаждением жизнью и ее отрицанием, характерно исключительно для индивидуального человека. Человеческое сообщество, напротив, принимает без колебаний и с небывалой прежде убежденностью земную жизнь как предмет всех своих чаяний и действий. Повсюду царит настоящий культ жизни.
Остается ответить на серьезный вопрос, может ли сохранять себя высокоразвитая культура без определенной ориентации на смерть. Все великие культуры, известные нам из прошлого, хорошо помнили такую ориентацию. Есть признаки того, что философская мысль уже выбирается на эту стезю. Во всяком случае, это будет соответствовать течениям, вдохновляющим философию жизни, ибо вполне логично, что доктрина, которая ставит существование выше познания, в свои установки неизбежно включает и конец существования.
Странные пришли времена. Разум, который некогда боролся против Веры и считал, что победил в этой борьбе, вынужден теперь, спасаясь от гибели, искать пристанища у Веры. Ибо только на испытанной и незыблемой основе живого метафизического познания абсолютное понятие истины со своими последствиями в виде совершенно непреложных норм нравственности и справедливости может противостоять нарастающему потоку инстинктивной жажды жизни.
Поразительное заблуждение! Бросаются в атаку против знания и понимания, используя при этом средства полузнания и недопонимания. Для доказательства никчемности познавательных средств нет иного пути, как только сослаться на другое знание, нежели то, которое отвергают. Реальность и сама жизнь остаются безмолвными и непроницаемыми. Всякое говорение включает в себя знание. Даже поэзия, которая наиболее страстно стремится через непосредственное ощущение жизни проникнуть в ее самые заветные глубины (я вспоминаю Уитмена и некоторые стихи Рильке), остается духовной формой, формой знания. Кто хочет всерьез проводить антиноэтический принцип, должен отказаться от речевой коммуникации.
Философия, которая заявляет априори, что основания истины для нее обусловлены определенной формой жизни, которой она служит, фактически представляет для носителей этой формы лишний груз, а для остального мира никакой ценности не имеет. Она служит единственно подтверждению уже признанного. Если познание никому не нужно, тогда зачем государству во имя престижа запрягать мыслителей впереди либо позади своей триумфальной колесницы? С них будет довольно супружеской постели, заступа и форменной фуражки.
Примечание автора
7. Цит. по: Criton. Historic en Mythe. -- "De Gemeenschap", Febr., 1935, p. 139.