 |
|
XIV. Государство государству волк
Но сейчас же в ответ раздается возмущенный протест, и не только со стороны современного деспотизма: Государство не может быть преступным! Государство нельзя рассматривать как подлежащее нравственным нормам человеческого общежития. Любая попытка подчинить его императивам нравственного суждения разбивается о самостоятельность Государства.
Государство стоит вне морали. И выше морали?
Наверное, сторонник доктрины внеморального Государства не решится на подобное утверждение. Он прибегнет к помощи логической конструкции, уже встреченной нами ранее, -- к учению о полной независимости политического, определяемой единственно противоположностью "друг -- враг", то есть отношением, которое выражает одну лишь опасность, возможный вред и стремление исключить то и другое, ибо, как мы только что показали, "друг" в этой семантической паре означает нечто просто "неопасное". Государство поэтому надлежит оценивать исключительно по его успеху в поддержании своего господства.
Хотя эта конструкция и нова, учение о внеморальности Государства имеет долгую предысторию. С большим или меньшим основанием оно может ссылаться на таких мыслителей, как Макиавелли, Гоббс, Фихте и Гегель. Оно находит, по видимости, солидное подтверждение и в самой истории. Во всяком случае, история редко называет в качестве стимула враждебных или дружественных действий и отношений государств иные мотивы, кроме властолюбия, алчности, корыстного интереса или страха. Теория абсолютизма нашла для этого термин "raison d'etat" ("интерес государства").
В прежние времена контраст между политической практикой и христианской моралью еще можно было легко преодолеть в иллюзии, что деяния Государства, какими бы они корыстными и насильственными ни казались, посвящены в конечном итоге благу веры, славе церкви, божественному праву короля или христианской справедливости. Аскетичный дух старого политического сознания наивно и охотно принимал эти представления. Между искренним идеализмом, питаемым патриотической верностью монарху, истовым правовым убеждением и дипломатическим лицемерием витало убеждение в непогрешимости и правоте отечества. Тот же, кто не способен был подняться до требуемого уровня оптимизма, все равно находил способ соблюсти нравственный авторитет Государства. Тысячелетнюю трагедию несправедливости и насилия он рассматривал как греховное деяние Государства, упустившего свой шанс освятиться. При таком образе мыслей оставался неприкосновенным идеал, в силу которого на империях и правительствах лежала священная обязанность жить по заветам веры и справедливости. Государство не имело права покидать почву нравственности.
По мере того как мысль о Государстве постепенно, утрачивая способность к чрезмерным иллюзиям, трансформировалась из общих принципов в отражение реальности, на основаниях античного учения о государстве, христианской этики, рыцарских норм и правоведческой теории в лоне международного права сложилась новая система воззрений. Освобожденная от веры как таковой, она трактовала государства мира как сообщество, члены которого обязаны уважать друг друга и вести себя в отношении других таким образом, как того требует право и от людей, живущих сообществом. Гроций придал этой системе классическую форму, ставшую фундаментом здорового государственного устройства, которая в наши дни окрылила перо такого мыслителя, как Ван Фолленховен, чей жизненный путь так рано прервался.
Апологеты политической аморальности категорически отвергают как христианское, так и международно-правовое основание для нравственного закона и для учения о долге государства. Эти ревнители встречаются не только среди сторонников фашистских направлений. Подобную точку зрения зачастую отстаивают историки. Да позволено мне будет привести здесь несколько подробнее, чем я уже сделал это ранее (19), отдельные высказывания Герхарда Риттера, которые в устах этого замечательного и спокойно мыслящего историка звучат особенно отчетливо. Германия в эпоху Реформации, говорит этот автор, была "noch weit davon entfernt, einen klaren Begriff von der naturnotwendigen Autonomie staatlichen Lebens gegendber dem Kirchenwesen und der uberlieferten kirchlichen Morallehre zu besitzen" -- ("еще очень далека от ясного представления о естественно необходимой автономии государственной жизни по отношению к церковным институтам и традиционному учению церкви о морали"). Германскому княжескому государству все еще не хватало "das BewuBtsein sittlicher Autonomie seiner weltlichen Lebenszwecke" -- (сознания моральной автономии своих земных жизненных целей"). И в конце статьи: "DaB alles politische Machtstreben sich zu rechtfertigen habe vor dem gottlichen Weltregiment, daB es seine unverriickbare Schranke finde an der Idee der absoluten Gerechtigkeit, des ewigen, von Gott gesetzten Rechts, und daB die Volkergesellschaft Europas fiber alle Gegensatze nationaler Interessen hinweg doch eine Gemeinschaft christlicher Gesittung bilden musse -- das sind alles zuletzt mittelalterlich-christliche Gedanken. Wenn diese uralten Traditionen in der englischen Politik bis heute nicht ganz ausgestorben sind, wenn sie darin fortleben in sakularisierter Gestalt, wahrend die groBen Nationen des Kontinents den rein naturhaften Charakter alles weltlichen Machtstrebens mit seinen harten Interessenkampfen ohne viel moralische Bedenken anzuerkennen pflegen -- so gehort das ebenialls zu den Folgen des Konfessionskampfes, der die Geistesart der europaischen Volker so scharf ausgepragt und so scharf voneinander unterschieden hat" -- ("Что всякое политическое стремление к власти должно оправдывать себя перед божественным мироустроением, что свой предел такое стремление находит в идее абсолютной справедливости, вечного, установленного Богом права, наконец, что вопреки всем противоречиям национальных интересов сообщество народов Европы должно образовать единую общность христианской культуры -- все это в конечном итоге чисто средневековые христианские идеи. Если эти древние традиции до сих пор еще не вымерли до конца в английской политике, если они продолжают существовать там в секуляризованном виде, в то время как великие нации континента обыкновенно признают без особых моральных колебаний чисто естественный характер всякого светского стремления к власти с его жесткой борьбой интересов, то все это можно отнести равным образом к последствиям конфессиональной борьбы, которая столь резко отчеканила духовный облик европейских народов и столь резко дифференцировала их друг от друга") (20).
Эту точку зрения как само собой разумеющуюся принимает и Карл Манхейм, социолог левой ориентации. Ссылаясь на "Die Idee der Staatsraison" ("Идею государственного интереса") Фридриха Мейнеке, он говорит о "moralische Spannung" ("моральном напряжении"), охватившем многих мыслителей, "als sie entdeckt haben, daB fur die Beziehungen der Staaten nach auBen hin die christliche und burgerliche Moralnicht gelte" -- ("когда они обнаружили, что для внешних сношений государств христианская и буржуазная мораль не имеют никакого веса") (21). По мнению Манхейма, процесс этого открытия протекал таким образом, "daB allmahlich diejenigen Schichten, die mit der Herrschaft zu tun hatten, sich selbst davon uber-zeugen muBten, daB sowohl zur Eriangung wie zur Erhaltung der Herrschaft alle sonst als immoralisch geltenden Mittel eriaubt sind" ("что постепенно господствующие слои должны были сами убедиться в том, что как для достижения, так и для удержания господства допустимы все средства, которые обычно считаются неморальными"). Со временем, по мере демократизации общества, с этой "политической моралью" тесно знакомятся все слои, что уже было показано на предыдущих страницах (22). "Wahrend bisher die Moral des Raubes nur in Grenzsituationen und fur herrschende Gruppen bewuBt gultig war, nimmt mit der Demokratisierung der Gesellschaft (ganz im Gegensatz zu den an sie geknupften Erwartungen) dieses Gewaltelement nicht nur nicht ab, sondern es wird geradezu zur offentlichen Weisheit der ganzen Gesellschaft" -- ("В то время как мораль разбоя до сей поры сознательно применялась лишь в пограничных ситуациях и господствующими группами, этот элемент насилия не только не убывает по мере демократизации общества (совершенно вопреки связанным с нею ожиданиям), но и становится прямо-таки публичной философией всего общества"). Манхейм указывает на огромную опасность этого "Hineinwachsen aller Schichten in die Politik" -- ("врастания всех слоев в политику"):
"Wird den breiten Massen ohne weiteres demonstriert, daB Raub die Grundlage der gesamten Staatenbildung und der auBeren Beziehungen zwischen Staaten ist und daB auch durch inneren Raub und Beutezuge ganzen Gruppen Arbeitserfolg und soziale Funktion genommen werden konnen... " -- ("Если станут, не задумываясь, демонстрировать широким массам, что разбой есть основа всякого образования государств и внешних сношений между ними и что и внутренний разбой и грабительские набеги могут лишить целые группы плодов их труда и социальных функций") (23), тогда придет конец всякой трудовой морали и ее охранительному влиянию на человеческое сообщество (24).
Здесь Манхейм снимает покров с одного небезопасного следствия доктрины государственного имморализма, а именно что этот имморализм не может оставаться монополией Государства, ибо его будут присваивать и использовать даже узкие квазиполитические группировки.
Не приходится удивляться, что там, где прямодушная наука впадает в горькое уныние, голос практической политики звучит еще громче и уверенней. На торжественном открытии кафедры германского права государственный комиссар юстиции заявил, если верить изложению его речи в газетах, что "было бы заблуждением думать, будто можно делать политику, опираясь на некую идеалистическую справедливость. Пришло время положить конец смехотворной фантазии, что справедливость может обусловливаться чем-либо иным, кроме жесткой необходимости прямого обеспечения могущества Государства. Земля принадлежит героям, а не декадентам". Прочь, вы все, декаденты, что начиная с Платона заполняли мир своей трусливой болтовней!
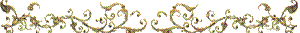
Таким образом, согласно этим воззрениям, Государство имеет право делать все, что угодно. По собственному усмотрению, если того потребуют интересы его господства, оно может нарушить верность клятве и совершить вероломство. Никакая ложь, никакой обман, никакая жестокость в отношении чужих или собственных граждан не могут быть поставлены ему в упрек, если оно тем самым приносит себе пользу. Оно вправе применить против врага любое оружие, могущее служить его целям, включая и дьявольский кошмар бактериологической войны. А ргоpos (кстати), в годы моей юности можно было прочесть в учебниках географии, что только некоторые, самые примитивные племена используют в своих войнах отравленные стрелы и что этот обычай исчезает на первых же ступенях цивилизации. Не знаю, право, можно ли еще прочитать об этом в школьных учебниках. Если да, то пришло самое время пересматривать ради приличия либо школьные учебники, либо собственные взгляды.
Итак, в отношении Государства не может быть и речи о политических промахах или преступлениях, которые оно могло бы совершить. Это же теория должна допустить и в отношении противника. Противостоящее государство ведь тоже не подлежит моральной оценке либо осуждению. Но тут немедленно мстит за себя убогость этой философии Государства, полной нечистых испарений человеческого ослепления и корыстолюбия. На практике эта красивая теория Государства, неподвластного морали, имеет хождение только внутри собственных границ. Ибо стоит лишь обостриться вражде, и сразу же великодушный голос твердого как сталь логического аргумента переходит в истерический рев, полный намеренной подозрительности по адресу врага и бранных выпадов из старого арсенала добродетели и греха. Кричат о лживости врага, о его коварстве, о его жестокости, о его дьявольской хитрости... Но ведь враг есть тоже какое-то Государство!
Таким образом, в отношении чужих не может быть никакого политического долга. Не существует и политической чести, коль скоро честь означает верность поставленному перед самим собой идеалу. Но там, где нет долга и нет чести, не может быть и доверия. Государство государству волк: это не пессимистический вздох, подобно древнему "homo homini lupus" ("человек человеку волк"), а научный тезис и политический идеал! Однако, к несчастью для теории, всякое сообщество, даже в животном мире, базируется на взаимном доверии особей, которые могли бы друг друга истребить. Сообщество как таковое, людей или государств, без взаимного доверия невозможно. Государство, которое само пишет на своих знаменах: "Не доверяйте мне", -- как это нынче делает теория имморального Государства, -- смогло бы в конце концов существовать в мире, если бы оно стало жить согласно этим идеям, только при условии полного превосходства над всеми другими государствами вместе взятыми. Так следствием абсолютной национальной автономии вновь становится давно забытая химера политического универсализма.
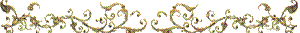
Это учение о моральной, а точнее сказать, аморальной автономии Государства, вне всякого сомнения, есть величайшая из опасностей, угрожающих западной цивилизации, поскольку оно имеет касательство к самому сильному субъекту власти, который способен и устроить и разрушить весь мир. Как неизбежное следствие оно влечет за собой взаимное истребление или взаимное истощение и дегенерацию тех единиц, из которых складывается эта цивилизация, -- национальных государств. Кроме того, оно угрожает самим этим единицам внутренним распадом в силу названной уже ранее закономерности, когда каждая группа, чувствующая себя в состоянии выиграть что-либо насилием, примет на вооружение такую политику, которая заключает в себе полную свободу от обязательств по отношению к другим. Имморальное всевластие Государства, таким образом, имеет своей перспективой снова анархию и революцию. Претензия Государства побудить своих подданных к добровольной и безусловной верноподданности и послушанию находит себе предел, с одной стороны, в совести, но равным образом, с другой, в эгоизме человеческой натуры.
Те, кого называют вождями, должны постоянно принимать самоуправные решения, что именно является государственным благом и как его добиваться. Верность, в которой им клянутся, не может превосходить доверие, заслуживаемое их мудростью. Если же в самой правящей группе нет единства и разлад заходит так далеко, что каждая из фракций считает именно себя призванной взять в свои руки власть, тогда более сильная или более решительная должна поставить другую на колени либо убрать с дороги. И в этой своей форме теория абсолютного Государства включает в себя практику государственных переворотов и дворцовых революций.
Коль скоро доктрина внеморального Государства содержит отказ от принципов истины, верности и справедливости, этих всеобщих человеческих принципов, то ее приверженцы должны были бы, собственно говоря, открыто отречься от христианства. Но этого они не делают, во всяком случае не делают единодушно и полностью. Они повторяют вслед за Тартюфом: "Il est avec Ie ciel des accomodements"*, время от времени довольно бесцеремонно желая навязать полюбовные сделки вышеупомянутым небесам.
Здесь мы имеем дело с примечательной формой уже отмеченной амбивалентности современного мышления, или, выражаясь посредством доморощенной терминологии, с широко задуманным планом -- как сберечь и козла и капусту. Сначала декларируют доктрину Государства, которая противоречит христианству, а равно и любой философской этике, опирающейся на непреложный нравственный закон, в основе которого -- совесть. Одновременно же пытаются манипулировать Церковью и догматами веры, предварительно втиснутыми в прокрустово ложе нового Государства.
В действительности этот образ действия отличается от тех, что были характерны для минувших эпох. С XVI и по XIX век национальные государства, как правило, относились друг к другу не нравственнее, чем в настоящее время. При этом они на словах свято и верно блюли христианский кодекс морали, даже апеллировали к нему как к принципу своей деятельности. Несомненно, все это заключало в себе изрядную долю лицемерия, отнюдь не терявшего своей порочности из-за того факта, что это лицемерие не было делом личной совести, а говорило устами самого Государства. Тем не менее все поведение Государства подчинялось одному -- христианскому -- учению, и, когда оно слишком явно отступало от идеала, общественное мнение не отказывало себе в удовольствии покритиковать действия собственного Государства как несправедливые.
Совершенно иную позицию занимает в наши дни Государство, исповедующее имморализм. В качестве Государства оно заявляет о своей полной самостоятельности и поэтому независимости в отношении любой морали. Поскольку оно, тем не менее, будучи сообществом, попутно хочет сохранить еще церковь и религию с ее четко сформулированным и обязательным нравственным законом, последний не только не равноценен, но подчинен доктрине, которой Государство следует.
Представляется очевидным, что только законченные безбожники и язычники из костюмерной "Кольца Нибелунга" смогут приноровиться к такой ущербной доктрине долга.
Но что же, спросит реалистически настроенный мыслитель, что же тогда вы собираетесь предложить в качестве всеобщей моральной нормы государственной жизни, дающей миру шанс на выживание? Или вы в самом деле полагаете, что, невзирая на все международные осложнения, государства станут вести себя друг с другом как благонравные Хендрики?** Конечно же нет, думать так не позволяют история, социология и знание человеческой природы. Государства будут и в дальнейшем вести себя прежде всего и главным образом соответственно своим интересам или тому, что они таковыми считают, а международную мораль соблюдать, может быть, на один-единственный миллиметр больше того, что предписывают интересы, иначе говоря, страх перед солидарными репрессалиями. Но этот единственный миллиметр -- та пядь земли, которая вмещает честь и доверие, и она больше тысяч миль насилия и воли к власти.
Поборники внеморального Государства забывают, как мне кажется (и в этом я вижу ответ на только что поставленный вопрос), ту самую особенность современного мышления, которая позволяет нам видеть вещи в их антиномичной взаимообусловленности, когда любое окончательное суждение релятивируется одним каким-нибудь "но". Государство есть существо, которое, при несовершенстве всего, что исходит от человека, будет вести себя с внешней, показной необходимостью по тем своим нормам, которые не имеют никакого отношения к нормам построенной на доверии общественной морали, не говоря уже о христианской вере. "Но" тем не менее оно никогда не потеряет из виду до конца ни христианских, ни общественных моральных норм под страхом гибели от последствий своего собственного отступничества.
Прорицательница в "Эдде" пела:
Время ветров, время волков,
покуда весь мир не исчезнет,
Ни один человек
не пощадит другого.***
Но мы не хотим исчезать!
Примечания автора
19. См.: Nederlands Geestesmerk, tweede uitgave, p. 25 [Verzamelde werken, VII, p. 229].
20ю Die Auspragung deutscher und westeuropaischer Geistesart im konfessionellen Zeitalter. -- "Historische Zeitschrift", 1934, № 149, S. 240 (доклад, читанный на Международном конгрессе историков в Варшаве в августе 1933 года). Из вышеизложенного возникла очень приятная для меня переписка с профессором Риттером, который пояснил, что ему не хотелось бы видеть словосочетание "sittliche Autonomie" ("нравственная автономия") истолкованным в смысле безоговорочного признания аморальности государства и что он отнюдь не рассматривает неослабное воздействие средневековых представлений о "вечном праве" как признак отсталости, но, напротив, видит в этом скорее преимущество английской концепции государственности над континентальной.
21. Курсив мой. Примечательно, что нравственная норма здесь исключается уже априори.
22. См. сноски 10 - 16 к главе XII "Жизнь и борьба".
23. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, S. 50-52.
24. См. гл. XII и XIII.
Примечания переводчика
"Il est avec le ciel des accomodements" -- Перефразированы следующие строки из IV действия "Тартюфа":
Le ciel defend de vrai certains contentements, Mais on trouve avec lui des accomodements.
В русском переводе Мих. Донского это место выглядит так:
Да, нам запрещены иные из услад,
Но люди умные, когда они хотят,
Всегда столкуются и с промыслом небесным
Цит. по: Мольер. Полное собрание сочинений в 3-х тт. М., 1985 - 1987. Т.2, с. 78 - 79.
** Благонравный Хендрик -- герой одноименной детской книжки (1823) второстепенного нидерландского писателя Николаса Анслейна (1777 -- 1838), весьма популярной в начале прошлого века; пай-мальчик.
*** В русском издании "Прорицания вёльвы" ("Старшая Эдда", с.13) это место звучит иначе:
(...) век бурь и волков щадить человек
до гибели мира; человека не станет.
XV. Героизм
Поднятый Нельсоном перед Трафальгарской битвой флажковый сигнал вовсе не гласил: "England expects that every man will be a hero" ("Англия ждет, что каждый станет героем"). Он гласил: "England expects that every man will do his duty" ("Англия ждет, что каждый выполнит свой долг"). В 1805 году этого было вполне достаточно. Так оно и должно было быть. Этого же было достаточно и для павших под Фермопилами, чья эпитафия, красивейшая из когда-либо сочиненных эпитафий, не содержала ничего, кроме бессмертных слов: "Чужестранец, передай лакедемонянам, что мы лежим здесь, послушные их приказу". *
Активные политические партии наших дней ссылаются на все могучие идеи и благородные инстинкты, свидетельством которых стали Трафальгар и Фермопилы: дисциплина, служение, верность, послушание, самопожертвование. Но для таких призывов им уже мало слова "долг", и они взвивают флаг героического. "Принцип фашизма -- героизм, принцип буржуазии -- эгоизм". Это можно было прочитать в Италии на плакатах, украшавших стены перед выборами весной 1934 года. Просто и выразительно, как алгебраическое уравнение. Решенный вопрос, прописная истина (leerstuk).
Для поддержки и утешения в суровой жизненной борьбе и в качестве объяснения великих деяний человечество всегда нуждалось в гипотезе о высоком назначении человека, о превосходящей обычную меру человеческой силе и отваге. Мифологическое мышление переносило осуществление такого величия в сферу сверхчеловеческого. Герои были полубогами: Геракл, Тесей. Но еще в период расцвета Эллады термин "герой" перешел на простых смертных людей: на павших за отечество, на тираноубийц. Однако это были всегда уже мертвые. Культ мертвых был зерном героической идеи. Понятие "герой" стояло рядом с понятием "почивший". Лишь впоследствии, вообще говоря только риторически, оно распространилось и на живущих.
В христианском учении идея героизма должна была потускнеть перед идеей святости. Аристократическая концепция жизни в эпоху феодализма возвысила понятие рыцарства до всех функций героического, связав благородное служение сюзерену и верность христианскому долгу.
С приходом Ренессанса в европейской мысли вызревает новое представление о доблести человека. Акцент падает теперь главным образом на качества ума и поведение в свете. В типах virtuoso (доблестный) или uomo singolare (выдающийся человек) мужество есть лишь одна из многих добродетелей, самопожертвование не является преобладающей чертой, главным считается успех. Испанец Бальтасар Грасиан присвоил в XVII веке имя "heroe" концепции энергической личности, которая еще отражает Ренессанс, но уже возвещает Стендаля. Иное звучание приобретает в том же столетии heros во Франции. Французская трагедия запечатлевает черты героического в фигуре трагического героя. В то же самое время политика Людовика XIV вводит в моду поклонение героям национально-милитаристского склада, придающее поэтическому мотиву звон меди и треск барабанов, топит героическое в роскоши, помпезных триумфах и высокопарных титулах.
В XVIII веке образ великого человека опять смещается. Герои Расина стали героями Вольтера, обычная жизнь которых протекает за кулисами. Восходящая демократия находит иллюстрацию своего идеала в древних фигурах римской гражданской добродетели. Дух просвещения, науки и гуманизма находит выражение идеала в гении, который несет в себе черты героического, но с несколько иным оттенком, нежели ренессансный virtuoso. Яркий акт мужества не стоит в понятии гения на переднем плане. Но нарождающийся романтизм открывает в свою очередь новый образ героя, который как духовная ценность скоро превзойдет греческих атлетов: это германский и кельтский герой. Архаическое, смутное и дикое в этих фигурах, мрачный характер их образного воплощения наполняли каким-то неотразимым очарованием европейский дух, повернувшийся ко всему, что напоминало о первопричинах. По-прежнему не может не удивлять, что тон современной героической фантазии задала поэзия Оссиана, на три четверти поддельная и все-таки столь впечатляющая.
Героический идеал, таким образом, постепенно более или менее явно расслоился на театральный, историко-политический, философско-литературный и поэтически-фантастический виды.
На протяжении всего XIX века представление о героическом было лишь в очень ограниченной степени предметом imitatio, то есть идеалом, которому нужно следовать. По мере того, как образ героя все больше становился продуктом исторического вторжения в прошлое, призыв "будьте, как этот", громко звучавший в рыцарском идеале, произносился все реже. Германский вариант героя вышел из рук профессоров, которые сделали доступными древнюю поэзию и историю, отнюдь не избирая для себя моделью самосовершенствования Зигфрида или Хагена. Дух XIX века, каким он проявился в утилитаризме, буржуазной и экономической свободе, демократии и либерализме, мало склонен был к установлению сверхчеловеческих норм. Тем не менее идея героизма получила дальнейшее развитие, а именно в англосаксонской форме.
Когда взялся за перо Эмерсон, буря байронизма уже миновала. Его героический идеал лишь в незначительной степени означает негативную реакцию на дух времени. Это культурный, оптимистичный, элегантный идеал, который весьма охотно сопрягается с ионятиями прогресса и гуманизма. Больше оппозиции в идеях Карлейля, но и у него сильный упор на этическое и на культурные ценности смягчает в героическом образе черты необузданной жестокости и неистового стремления вперед вопреки всему и вся. Его hero-worship (культ героя) вряд ли можно было, по сути дела, назвать страстной проповедью или воздвижением алтаря герою. В англосаксонском искусстве жизни, у Рескина и Россети, было довольно места для героического идеала, парившего в сфере высокой элитарной культуры, на приличной дистанции от требований практической жизни.
Якоб Буркхардт, проницательнее всех других видевший изъяны своего века и резче их осуждавший, удивительным образом избежал в своей концепции ренессансного человека терминов "героическое" и "героизм". Он по-новому взглянул на величие человека, и эта трактовка прибавила романтическому понятию гения страсти и выразительности. Преклонение Буркхардта перед властной энергией индивидуума и самоуверенным выбором собственного жизненного пути диссонировало со всеми идеалами демократии и либерализма. Но он никому никогда не предлагал своей точки зрения в качестве морали или политической программы. Он стоял на позиции гордого презрения, с которым одинокий индивидуалист взирает на суету окружающей публики. При всем своем почитании человеческой активности Буркхардт мыслил слишком эстетически, чтобы сотворить новый идеал практического героизма. Вместе с тем он был настроен слишком критически, чтобы высказаться в поддержку культово-мифологического элемента, нерасторжимо связанного с понятием героизма. В своих "Weltgeschichtliche Betrachtungen" ("Рассуждениях о всемирной истории"), трактующих о die historische GroBe (историческом величии), он постоянно прибегает к выражению "das groBe Indviduum" ("великий индивидуум"), но не к терминологии героического.
И все-гаки в одном пункте он оказался предтечей современной версии этого феномена: в соответствии с созданным им самим образом эпохи Возрождения он признает за "великим индивидуумом" фактическое "Dispensation vom Sittengesetz" ("освобождение от нравственного закона"), хотя и не интерпретирует этого явления в философском аспекте.
Ницше, который был учеником Буркхардта, развертывал свои идеи о высших человеческих ценностях из совсем иных духовных перипетий, которых никогда не знал спокойно созерцающий дух его учителя. Ницше провозглашает свой идеал героического, пройдя через полное отрицание ценности жизни. Этот идеал возник в сфере, где дух оставил далеко позади себя все, что называется государственным строем и социальным общежитием, -- идея фантастического ясновидца, предназначенная для поэтов и мудрецов, но не для политических деятелей и министров.
Есть нечто трагическое в том, что нынешнее вырождение героического идеала берет свое начало в поверхностной моде на философию Ницше, захватившей широкие круги около 1890 года. Рожденный отчаянием образ поэта-философа заблудился на улице раньше, чем он достиг палат чистого мышления. Среднестатистический олух конца века говорил об Ubermensch (сверхчеловеке), как будто доводился ему младшим братом. Эта несвоевременная вульгаризация идей Ницше, без всякого сомнения, стала зачином того идейного направления, которое поднимает сейчас героизм до уровня лозунга и программы.
При этом понятие героического претерпело такую ошеломительную трансформацию, которая лишает его глубинного смысла. Хотя титула героя риторика порой удостаивала и живущих, но в принципе он оставался почетным уделом только мертвых -- подобно канонизации святых. Такова была цена благодарности, которую живые платили мертвым. На битву отправлялись не для того, чтобы стать героем, а чтобы исполнить свой долг.
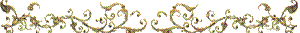
С тех пор как возникли различные формы популистского деспотизма, героическое стало крылатым словом. Героизм стал пунктом программы, он даже хочет играть роль новой морали, коль скоро столько людей признали старую негодной для дальнейшего употребления или вообще ненужной. Было бы глупо без раздумий отрицать ценность этого чувства. Необходимо проверить его на истинность и содержательность.
Восторги по поводу героического -- это самый красноречивый показатель свершившегося большого поворота от познания и постижения к непосредственному переживанию и опыту. Этот поворот можно было бы назвать узлом кризиса. Прославление действия как такового, усыпление критического чутья сильнодействующими возбудителями воли, вуалирование идеи красивой иллюзией -- все это перемешано в новом культе героического, но для искреннего адепта антиноэтической жизненной позиции такие качества суть не более чем дополнительное оправдание героизма.
Разумеется, нельзя отрицать положительную ценность подобной героической позиции, систематически культивируемой властью во имя Государства. Поскольку героизм означает повышенное осознание личностью своего призвания -- не щадя сил, вплоть до самопожертвования, участвовать в осуществлении общего дела, -- то его можно назвать позицией, которая придется кстати в любую эпоху. При этом, несомненно, высоко ценится и поэтическое содержание, присущее понятию героизма. Оно сообщает действующему индивидууму ту напряженность и экзальтацию, с которыми вершатся большие дела.
Не вызывает сомнений, что современная техника резко повысила уровень повседневного проявления мужества, притом что она сделала нашу жизнь и наше передвижение намного безопаснее. Как бы оцепенел Гораций, воспевший путешествие на корабле как дерзкий вызов небесам **, если бы оказался на борту аэроплана или подводной лодки! С техническими возможностями выросла и готовность людей без колебаний подвергать себя интенсивной опасности. Вне всякого сомнения, существует взаимосвязь между развитием воздухоплавания и распространением героического идеала. Нельзя сомневаться и в том, где именно может он осуществляться в наиболее чистом виде: там, где о нем не говорят, то есть в повседневной работе воздухо- и мореплавателей.

Героизм переходит всякие границы. Время от времени на этом свете должны случаться вещи, которые переходят всякие границы. Здесь мы опять оказываемся у той черты, где наше суждение становится антиномическим. Никто не станет желать, чтобы человечество в любом отношении влачило жалкое существование в узкой колее, куда втиснули его несовершенные законы и несовершенные моральные нормы. Без вмешательства героического не было ни Никейского собора, ни свержения Меровингов, ни завоевания и основания Англии, ни Реформации, ни восстания Нидерландов против Испании, ни свободной Америки. Все дело в том, кто вмешивается, как и во имя чего. Если прибегнуть к медицинским терминам, то следует признать, что наше время, возможно, нуждается в препаратах героического при условии, что они будут использованы настоящим врачом и надлежащим образом.
Но эта метафора сразу же побуждает взглянуть на героизм с другой стороны. Эпоха нуждается в тонизирующем средстве потому, что она ослаблена. Культ героического сам по себе есть показатель кризиса. Он означает, что понятия служения, миссии, долга больше не имеют достаточно силы, чтобы стимулировать энергию общества. Ее нужно усиливать, как голос через громкоговоритель. Энтузиазм людей необходимо раздувать, а может быть, и "надувать".
Кем именно, ради чего и как? Цену политическому героизму определяют чистота цели и способ действия. Если такой героизм хочет выдержать сравнение с Фермопилами и Нибелунгами, то его проявление должно быть диаметрально противоположно всему тому, что следует назвать истерической взвинченностью, похвальбой, варварским чванством, дрессировкой, парадностью и тщеславием. Всему, что является самообманом, сознательным преувеличением, ложью и обольщением. Не будем забывать, что самая чеканная формула героического, а именно рыцарский идеал Средневековья, сильна как раз ограничением допустимых средств и строгим, формальным кодексом чести.
Эра рекламы не знает ограничений в средствах. Любую информацию реклама насыщает таким зарядом суггестии, какой та только может вместить Она навязывает свои призывы публике, как догмы, заряжая ее насколько возможно чувствами отвращения или восхищения. У кого в руках лозунг или хотя бы политический термин, будь то расизм, большевизм или что-то другое, у того в руках палка, чтобы бить собаку. Современная политическая публицистика ведет оптовую торговлю палками для битья собак, а своих клиентов в конце концов превращает в горячечных больных, которым повсюду чудятся собаки.
Нынешний героизм с его различием в цвете рубашек и форме приветственных жестов нередко означает на практике не более чем примитивное нагнетание стадного чувства. Определенный субъект "мы и наши", называемый партией, взял героизм в аренду и облекает в него тех, кто ей, партии, служит. С точки зрения социологической такое усиление коллективистского чувства имеет громадное значение. Оно встречается во все времена и у всех народов, а именно в форме обрядов, танцев, кликов, песнопений, атрибутики и т.д. Если наша эпоха и в самом деле утратила потребность логически понимать и мотивировать свои собственные действия, тогда она совершенно естественно должна была вернуться к примитивным методам единения душ и сердец.
Однако со следствиями антиноэтического учения о жизни постоянно связана одна опасность. Приоритет жизни над познанием с необходимостью влечет за собой как следствие, что с принципами познания отбрасываются также и нормы морали. Если власть проповедует насилие, то следующее слово берут сами насильники. Общество само отказало себе в праве от них защищаться. Они будут считать себя оправданными этим принципом и не остановятся перед самыми крайними формами жестокости и бесчеловечия. И все социальные элементы, находящие в насилии удовлетворение своих животных или патологических инстинктов, с готовностью стекутся исполнять сообща эту свою героическую миссию. Наверное, только чисто военная власть сможет их удержать в известных границах. В кровавом фанатизме народного движения они станут играть роль подручных смертоубийства.
Примечание переводчика
* В 480 г. до н. э. отряд из 300 спартанцев под предводительством царя Леонида ценой своей гибели остановил в Фермопильском ущелье персидскую рать. Эпитафия Симонида Кеосского в переводе Цицерона ("Тускуланские беседы", I, 42): Dic, hospes, Spartae nos te hic videsse iacentes dum sanctis patriae legibus oobsequimur. -- (Путник, пойди, возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли). Русский перевод Л. Блуменау цит. по: Античная лирика. БВЛ. М., 1968, с. 178
** В стихотворении "О корабль... (К Республике)". См.: Гораций. Оды, эподы, сатиры, послания, с. 62
XVI. Пуерилизм
Платон высказал мысль, глубина которой выходит за пределы нашей понятийной системы: люди суть игрушки богов. Сейчас можно сказать, что люди превращают в игрушку весь свет. И хотя эта мысль не так глубока, как первая, ее нельзя считать всего лишь пустым сетованием.
Пуерилизм -- так мы назовем позицию общества, чье поведение не отвечает уровню разумности и зрелости, которых оно достигло в силу своей способности судить о вещах; которое вместо того, чтобы готовить подростка к вступлению во взрослую жизнь, свое собственное поведение приноравливает к отроческому. Термин "пуерилизм" не имеет никакого отношения к понятию инфантилизма из области психоанализа. Он основан на наблюдении и констатации видимых невооруженному глазу культурно-исторических и социологических фактов. Мы не будем связывать с ним никаких психологических гипотез.
Примеры современных обычаев, которые можно не задумываясь квалифицировать как пуерилизм, встречаются на каждом шагу. "Нормандия" отправляется в свой первый рейс и возвращается после триумфального плавания в родную гавань с пресловутой голубой лентой. Благородное состязание наций, чудесное достижение техники! Кораблестроители, судоходные компании, специалисты по транспортным сообщениям все в один голос заявляют, что в пользу эксплуатации гигантских судов нет ни одного практического довода. Зимой "Нормандия" плавать не может: это не оправдывает затрат. Таким образом, приходится возвращаться назад, к практике судоходства в эпоху Раннего Средневековья, когда навигация проводилась только в летнее полугодие. Тошнотворная роскошь, какой бы изысканной она ни была, истинно морской душе кажется насмешкой, и в прежние времена ее сочли бы вызовом небу. А пассажиры терпеливо дрожат от страха все четыре дня пути. Никто из тех, кто мало-мальски разбирается в современной культуре, не захочет и не сможет игнорировать впечатляющую, даже возвышающую силу этого сделанного напоказ чуда техники. В его колоссальных масштабах красота присутствует по праву, как в пирамидах. Красота присутствует и в утонченной внутренней целесообразности. Но сотворивший эту красоту дух не был ни духом величия, ни духом увековечения. Все, чего достиг здесь человек в заранее рассчитанном подчинении природы, принесено в жертву пустой, тщеславной игре, не только не имеющей ничего общего с культурой или мудростью, но и лишенной высоких ценностей самой игры, поскольку она не хочет слыть игрой.
Или возьмем тот вид игры, что претендует на звание серьезного, когда министерские кабинеты то и дело шатаются из-за надуманных партийных интриг и козней, в силу чего некоторые крупные державы тормозят действительное самоочищение и укрепление своего политического режима, запутавшись в правилах парламентаризма, истинной сути которого они никогда не понимали. Или вспомним, как перекрещивают большие старые города в честь нынешних общенациональных знаменитостей, умерших и даже живущих, как, например, в честь Горького или Сталина.
Попутно укажем на тот дух парадов и маршировок, что распространился ныне по всему миру. Мобилизуются сотни тысяч человек, самые большие площади оказываются тесными, целая нация выстраивается в одну шеренгу, как оловянные солдатики. Даже стороннему зрителю трудно отделаться от впечатления: какое грандиозное зрелище, какая мощь! Все это ребячество. Пустопорожний блеск формы вызывает иллюзию полноценного содержания. Кто еще не разучился думать, тот знает, что на самом деле все это не имеет никакой ценности. Абсолютно никакой. Это лишь воочию убеждает, как много общего имеют популярный героизм цветных рубашек, театральность жестов и всеобщий пуерилизм.
Страна, где национальный пуерилизм можно наблюдать в самых законченных формах, от невинной и даже привлекательной до преступной -- это Соединенные Штаты Америки. Однако нужно при этом остерегаться одного -- не попасть в положение Нёркса *. Ибо Америка моложе Европы, в ней живее сохранился мальчишеский дух, поэтому многое, что у нас в Европе назвали бы ребячеством, там остается наивностью, а истинная наивность спасает от упрека в пуерилизме. Но сами американцы уже не попадаются на удочку своей молодости с ее эксцессами. Они подарили себе "Бэббита"**.
Пуерилизм выражается двояким образом: в деятельности, которая слывет серьезной и важной, но вся пронизана игровым качеством, как ранее упомянутая, и в такой деятельности то, что считается игрой, однако теряет игровое качество из-за способа своей реализации. К последней относятся всякого рода любительские занятия и увлечения, а также коллективные или умственные игры, вызывающие широкий, даже международный интерес, с регулярными конгрессами, с рубриками в прессе, с профессионалами и специалистами, со своей теорией и учебниками. Разумеется, их нельзя ставить на одну доску с тем особенно ярким, но поверхностным симптомом всеобщего пуерилизма, так называемым craze (повальным увлечением), мгновенно расходящимся по белу свету, как несколько лет назад это было с кроссвордами.
Само собой понятно, что к числу только что названных любительских увлечений и коллективных игр не относится современный спорт. Телесные упражнения, охота, состязания, правда, являются в высшей степени ювенильными функциями человеческого сообщества, но здесь это целительная и спасительная молодость. Без состязания нет культуры. То, что наша эпоха обрела в спорте и спортивных состязаниях новую международную форму удовлетворения древней и великой агональной потребности, есть, наверное, один из элементов, составляющих наибольший вклад в сохранение культуры. Современными видами спорта мир обязан главным образом Англии. С этим подарком люди научились обходиться лучше, нежели с другими, которые тоже даровала им Англия, а именно с парламентской формой правления и судом присяжных. Новый культ физической силы, ловкости и отваги, который отправляют и женщины и мужчины, сам по себе представляет, вне всякого сомнения, позитивный культурный фактор высшей пробы. Спорт воспитывает жизненную силу и мужество, создает порядок и гармонию -- все, что относится к ценнейшему достоянию культуры.
Это не исключает проникновения пуерилизма самыми различными путями и в спортивную жизнь. Он налицо там, где страсть к соревнованиям принимает формы, полностью вытесняющие духовный элемент, как это происходит в некоторых американских университетах. Пуерилизм угрожает просочиться в спортивную жизнь и через ее чрезмерную организацию и из-за чрезмерного удельного веса спортивной хроники в газетах и журналах, заменяющей их читателям духовную пищу. Пуерилизм демонстрирует себя в особенно наглядном виде там, где честный характер состязаний сталкивается с национальным и прочими чувствами. В целом спорт обладает способностью временно оттеснять на задний план даже сильные национальные антипатии. Известно, правда, что в этом стремлении возвыситься над собственной жаждой славы порой случаются перебои, например в тех случаях, когда спортивный арбитр из страха перед публичным скандалом боится судить объективно. С раздуванием национального чувства опасность такого перерождения возрастает. Бояться проигрыша в игре по праву всегда считалось ребячеством. Когда боится проигрыша целая нация, она не заслуживает другого названия, кроме как ребяческая.
Если современной культуре и в самом деле необходимо приписать высокую степень пуерилизма, то встает вопрос, отличается ли она в этом пункте от прошлых культурных периодов и в чью пользу это сравнение. Было бы совсем нетрудно показать, ч то во многих аспектах поведение сообщества обычно или как исключение бывало неподобающим совершеннолетнему индивидууму. Похоже, однако, что существует различие между прежней глупостью и нынешним ребячеством.
На более ранних культурных стадиях общественная жизнь протекает по преимуществу в игровой форме, то есть во временно установленных рамках человеческого поведения по добровольно принятым нормам и в законченной и замкнутой (sluitend en geslolen) форме (25). Место прямого преследования пользы или поиска удовлетворения временно занимает стилизованное представление. Если это священная игра, то такая деятельность превращается в культ или ритуал. Действие остается игрой, даже когда имеют место кровавые ритуалы или состязания. Оно совершается в отграниченном игровом и временном пространстве: освященное место, поле боя, праздничная площадка. Внутри этого пространства "обыденная" жизнь на время исключается. Действительность вне игрового пространства временно забывается, свободное суждение отступает, люди предаются общей иллюзии. Все эти черты по-прежнему реализуются полностью поныне в любой настоящей игре: игре детей, спортивном состязании, театре.
Самым существенным признаком всякой настоящей игры, будь то культ, представление, состязание, празднество, является то, что она к определенному моменту кончается. Зрители идут домой, исполнители снимают маски, представление кончилось. И здесь выявляется зло нашего времени: игра теперь во многих случаях никогда не кончается, а потому она не есть настоящая игра. Произошла контаминация игры и серьезного, которая может иметь далеко идущие последствия. Обе сферы совместились. В действиях, выдающих себя за серьезное, скрывается игровой элемент. Общепризнанная же игра, напротив, из-за своей чрезмерной технической организации и потому, что ее слишком серьезно воспринимают, больше не в состоянии удержать свой неподдельно игровой характер. Она теряет необходимые качества обособленности, непринужденности и радостного оживления.
Насколько мы можем разглядеть прошлое, подобная контаминация всегда была свойственна культуре. Сущность противоположности "игра -- серьезное" скрывается из виду в непроницаемых глубинах психологии животных. Современная западная культура получила сомнительную привилегию довести до высшей степени это смещение жизненных сфер. Бесчисленное множество как образованных, так и необразованных людей культивирует неизменное ребяческое отношение к жизни. Выше мы уже касались мимоходом распространенного состояния духа, которое можно было бы назвать перманентным отрочеством. Его отличает недостаток чутья к тому, что уместно и что неуместно, недостаток личного достоинства, уважения к другим и к чужому мнению, гипертрофированное сосредоточение на собственной личности. Почву для этого подготавливает всеобщий упадок способности суждения и критической потребности. Масса чувствует себя просто замечательно в состоянии полудобровольного оглупления. Это состояние может в любую минуту стать крайне опасным из-за того, что больше не действуют тормоза моральных убеждений.
Далее, кажется странным и вызывает тревогу, что рост подобного умонастроения подталкивается не только спадом потребности в личном суждении из-за нивелирующей роли групповой организации, которая навязывает готовые мнения, исключающие необходимое сосредоточение собственного мышления, но и благодаря тому, что поразительное развитие техники стимулирует это состояние духа и дает ему богатую пищу. Человек стоит посреди своего полного чудес мира как ребенок, даже как ребенок в сказке. Он может летать на самолете, разговаривать с другим полушарием Земли, получить лакомство из автомата, услышать по радио любую часть света. Он нажимает кнопку, и жизнь врывается к нему в дом. Может ли такая жизнь сделать его духовно зрелым? Совсем напротив. Весь мир стал для него игрушкой. Нет ничего удивительного в том, что он держится, как ребенок.

Открывая контаминацию игры и серьезного в современной жизни, мы касаемся очень глубоких проблем, которые не могут быть здесь досконально изучены. С одной стороны, это явление предстает как недостаточно серьезное отношение к труду, долгу, судьбе и жизни; с другой -- как признание высокой серьезности занятий, которые чистое суждение назвало бы пустыми, ребяческими, в то время как в обращении с вещами действительно важными преобладают игровые инстинкты и приемы. Ведь не редкость политические выступления ведущих деятелей, которые нельзя оценить иначе как злостные выходки озорных мальчишек.
Было бы небесполезно проследить, как в различных языках слова, обозначающие игру, то и дело перескакивают в сферу серьезного. Особенно богатую почву дает для таких наблюдений язык американцев. Журналист говорит о своем ремесле как о the newspaper game (газетной игре). Политик, воспитанный в честности, но подхваченный волной коррупции, в свое оправдание заметит, что он had to play the game (должен был сыграть эту игру). Таможенника уговаривают посмотреть сквозь пальцы на нарушение Prohibition Law***: "Be a good sport" ("будьте же спортивным"). Примеры взяты из частного письма 1933 года. Очевидно, что здесь перед нами нечто большее, чем проблема словоупотребления. Дело тут идет о коренящемся глубоко "переносе" морально-психологического характера. В одном из своих романов Герберт Уэллс описал, как глубоко сидит в ирландцах элемент "fun" ("забавы"), даже в их восстании за независимость.
При полусерьезном жизненном и духовном состоянии очень уместен характерный термин "slogan" ("лозунг, призыв"). Этому старинному шотландско-ирландскому слову, обозначающему боевой клич, по которому собирались кланы, американцы придали в недавнем прошлом (словарь Мэррея **** этого еще не зафиксировал) значение политического девиза или лозунга в предвыборной борьбе. Можно сказать, что "slogan" есть девиз партии, о котором говорящий сам отлично знает, что девиз этот верен лишь в незначительной степени и необходим для успеха его партии. Это игровая фигура, троп.
Англосаксонские народы с их высокоразвитым игровым инстинктом обладают тем преимуществом, что они способны сами воспринимать в своих действиях элементы "fun" ("забава") и "game" ("игра"). Это дано не всякому народу. Латинским, славянским, германским народам континента порой, кажется, не хватает этой способности. Что, например, если вдуматься, означает выражение "Blut und Boden" ("кровь и почва"), как не девиз? Изречение, которое hinwegtauscht (вводит в заблуждение) суггестивной образностью вопреки всем изъянам своего логического обоснования и всем опасностям практического употребления. Ныне этот девиз, не признаваемый таковым, но включаемый в речевой обиход, вплоть до официального и научного лексикона, естественно, стал вдвойне опаснее.
Девиз чувствует себя как дома в рекламе, неважно какой, коммерческой или политической. Под это понятие подпадает вся политическая пропаганда, особенно когда она официально организована. Теперь все рекламное дело, сей гипертрофированный продукт новейшего времени, строится на позиции полусерьезности, характерной для развитых культур. Может быть, ее следует рассматривать как возрастное явление. Пуерилизм -- вот самое точное определение этого феномена.
Эта повсеместно утвердившаяся позиция полусерьезности дает вместе с тем объяснение тесному контакту между героизмом и пуерилизмом. С того самого момента, когда провозглашается лозунг: будем героями, -- начинается большая игра. Когда такая игра протекала полностью внутри сферы поединка эфебов и Олимпиады, она могла быть благородной игрой. Но когда она разыгрывается в политической практике, в парадах и массовой муштре, в ораторских эскападах или в продиктованных властью газетных статьях, а общество принимает все это всерьез -- воистину здесь нет ничего другого, кроме пуерилизма.
Для философии Государства или философии жизни, которая с высказывания суждений разума переориентируется на выражение бытия либо интереса, вся сфера современного пуерилизма с его лозунгами, парадом и бессмысленным состязанием, есть та стихия, в которой великолепно себя чувствует она сама и в которой может пышно расцветать власть, коей она служит. Во всяком случае, ее никак не смущает, что невозможно поверить чистым суждением массовый инстинкт, которым она спекулирует. Эта философия просто не желает чистого суждения, которое есть функция познающего духа. Ее не беспокоит, что с отказом от суждения понятие ответственности редуцируется до расплывчатого чувства вовлеченности в дело, требующее самоотдачи.
Смешение игры и серьезного, составляющее подоплеку всего того, что мы понимаем здесь под термином "пуерилизм", несомненно, является одним из важнейших недугов нынешней эпохи. Остается вопрос, до какой степени пуерилизм связан с другой чертой современной жизни, а именно с культом молодости. Их нельзя ни в коем случае смешивать. Пуерилизм не признает возраста, он заражает и старых и молодых. На первый взгляд культ молодости есть показатель свежести сил, но может рассматриваться и как старческое явление, как отречение от престола в пользу несовершеннолетнего наследника. Известно, что самые цветущие культуры любили молодежь и ценили ее, однако не баловали, не давали ей изнежиться, постоянно требовали послушания и почтения к старшим. Типично декадентскими и пуерильными были отшумевшие недавно течения, называвшие себя футуризмом. Но нельзя сказать, чтобы виной тому была молодежь (26).
Примечания автора
(25). В отдельной работе об игровом элементе культуры я делаю попытку шире осветить затронутую здесь тему, которой посвящен мой доклад " О границах игры и серьезного в культуре", (1933).
(26). В качестве иллюстрации к этой главе о пуерилизме можно рекомендовать два манифеста, недавно выпущенные известным родоначальником футуризма Ф.Т. Маринетти, опубликованные в переводах в лондонской "World", октябрь и ноябрь 1935 года, на с. 310 400 ("World" London,Oct(ober] & Nov(ember] 1935, p. 310, 400), и в Ham-burger Monatshefte fur Auswartige Politik", November 1935, S. 4.
Примечания переводчика
* Нёркс -- персонаж очерка "Неприятный человек из Хаарлеммерхаута", вошедшего в сборник нидерландского писателя нравов Николаса Беетса (1814 -- 1903); нарицательное имя холодного и язвительного наблюдателя, критикующего всех и вся.
** "Бэббит" -- сатирический роман Синклера Льюиса (издан в 1922 году), назван по имени главного персонажа -- преуспевающего бизнесмена, энергичного и шумливого, искренне полагающего, что все можно купить, который стал популярной фигурой.
*** Prohibition Law -- (англ.): букв. "запретительный закон"; сухой закон, введенный Конгрессом США в 1919 г.
**** Словарь Мэррея -- имеется в виду "New English Dictionary" -- "Новый английский словарь" в 10 томах (1888 -- 1928), издание которого было начато усилиями английского филолога и издателя Джеймса Мэррея (1837 -- 1915).
XVII. Суеверие
Эпохе, склонной ради воли к жизни отвергать нормы познания и суждения, вполне к лицу оживление суеверия. Будучи всегда увлекательным и дразнящим, суеверие имеет, помимо этого, еще свойство в периоды большого духовного смятения и движения снова входить в моду. На какое-то время оно даже приобретает изящество и пикантность, приятно занимая воображение и отвлекая нас от мыслей об ограниченности нашего знания и понимания.
Я не собираюсь трактовать здесь обо всех формах современного суеверия. Остановлюсь только на двух. Первая относится к суеверным представлениям, от которых полностью свободны, пожалуй, лишь немногие, а именно к страху искушать судьбу. Этот врожденный страх таится на самом дне человеческой души; возможно, его следует считать замаскированной верой. Кто из нас не стучит по дереву, чтобы отогнать от себя зло, в которое он всерьез и не верит. Здесь кроется причина того факта, что каждая новая опасность несет с собой новую форму суеверия. Когда автомобиль считался небезопасным, то у заднего стекла обычно болтался какой-нибудь талисман. Теперь их почти не видно. Зато появилось другое: еще совсем недавно одна очень известная авиакомпания требовала от своих пилотов, помимо сдачи экзамена, освидетельствования и тестов, еще и представления гороскопа. Само по себе вполне понятно, что авиация, имея дело с возрастающей опасностью, сама испытывает потребность в психологической гарантии. И все же кажется сомнительным, когда большой официальный организм вносит таким образом свой вклад в возрождение астрологии. Суеверие, претендующее на статус науки, вызывает гораздо больше сумятицы в понятиях, чем суеверие из числа простых и популярных заблуждений. Люди полагают найти в гороскопе точные данные, хотя на самом деле гороскоп, если даже он имеет какой-то смысл, несет в себе не больше информации, чем перечень ваших примет в паспорте.
Самая распространенная и самая роковая форма современного суеверия заключена не в чересчур легковерном отношении к таинственным связям и не в ссылке на мнимую научность, а целиком в сфере чисто рационального мышления и доверия подлинной науке и технике. (Должен категорически заявить, что я воздерживаюсь от любого суждения о серьезном исследовании необъясненных психических явлений.) Это вера в целесообразность современной войны и средств ее ведения.
Конечно, долгое время войнам приписывали самую большую степень целесообразности. В далекой древности восточное царство, истребляя своих врагов, могло не тревожиться о том, что такие войны со временем могут превратить Ближний Восток в пустыню. Да и в европейской истории можно признать несомненную целесообразность за целым рядом оборонительных и несколькими наступательными войнами. Однако несравненно больше было таких, которые едва ли возможно подвести под понятие целесообразности. Вспомним Столетнюю войну, войны Людовика XIV, наполеоновские войны, целесообразность которых была снята Лейпцигом и Ватерлоо. Почти во всех этих случаях целесообразность ограничивается непосредственным результатом. Мир и безопасность как конечные цели войны, собственно говоря, всегда являются следствием не самих военных действий, а истощения сил у воюющих сторон.
По мере того как средства ведения войны становятся все мощнее, а само существование стран, способных вести войну, все более зависит от их мирных взаимоотношений, войны теряют свою целесообразность. Переход от наемной армии к рекрутскому набору и всеобщей воинской повинности означает гигантский шаг в сторону нецелесообразности. Во всяком случае, при этом неизмеримо возрастает расточение народных сил. С огнестрельным оружием все выглядит иначе. Можно сказать, что начиная со своего появления и вплоть до конца XIX века это оружие повышало целесообразность войны, но впоследствии, с прогрессом в применении взрывчатых веществ, она стала круто падать. Во всяком случае, конечный итог всех разрушений достиг таких масштабов, что лишает и победителей и побежденных сколько-нибудь полезных результатов, не говоря уже о том, что на театре военных действий в случае относительного равновесия сил материальные потери и жертвы обеих воюющих сторон перевешивают непосредственный выигрыш. Всякое боевое средство сохраняет свою целесообразность лишь до тех пор, покуда его нет у противника, но не дольше. Что верно для взрывчатых веществ, касается также других чудес, которыми снабдили войну бетонное строительство, подводный флот, авиация и радиотехника. Всякий успех, которого они добиваются, -- мнимый успех, его значение кратковременно, а чаще его и успехом нельзя назвать. Разве не играли гигантские линкоры во время первой мировой войны роль амулетов на шее у Британии! Разве не служили все геройские подвиги, все молодые жизни, но также и вся жестокость и попрание всяческих прав, которыми отличалась война подводных лодок, только тому, чтобы продлилось кровопролитие!
Наша планета больше не в состоянии пережить современную войну. Война может ее только изуродовать, мира она больше не принесет. Ибо дух народов настолько мобилизован и вместе с тем настолько отравлен, что любая война должна будет оставить после себя неимоверно возросшую массу ненависти. Страны-победительницы, по сути, продиктовали конечный итог мировой войны, собрав воедино всю свою государственную мудрость. И что же в результате получилось? Грубые ампутации да новые осложнения, еще неразрешимое прежних, груз нищеты и запустение в будущем! Не составит труда обвинить Версаль в глупости. Как будто в случае победы противной стороны слово взяли бы более мудрые политики и были бы приняты более разумные решения!
Все это значит сеять зубы дракона. Сначала государства, используя высочайшие достижения науки и техники, не останавливаясь перед самыми разорительными затратами, создают сухопутные, военно-морские и воздушные силы, а затем страстно надеются (большинство, во всяком случае) что не будут пускать все это оружие в ход. Выражаясь в терминах чистой целесообразности, это -- подкрашивание старой ржавчины.
Упорная вера в целесообразность войн есть в самом буквальном смысле слова суеверие, реликт минувших периодов культуры. Как могло случиться, что такой человек, как Освальд Шпенглер, в своей книге "Jahre der Entscheidung" ("Годы решения") продолжает фантазировать, развивая это суеверие? Что за беспочвенная романтическая иллюзия -- эти его цезари с героическими фалангами наемных воинов! Как будто современный мир, если вынудит необходимость, стал бы стеснять себя какими-то рамками в использовании всех своих сил и средств!
Я представляю себе сейчас китайскую деревеньку с ее хижинами, а на стенах и крышах развешаны полоски красной бумаги с изречениями, которые должны отводить от жителей всякого рода напасти. Это внушает селянам, надо думать, чувство безопасности. А что такое безопасность, как не чувство? Практично и дешево! И насколько целесообразнее наших миллиардных расходов, не дающих нам никакого чувства безопасности. Почему же мы называем первое суеверием, а второе -- государственной мудростью?
Не нужно понимать все вышеизложенное как защитительную речь в пользу одностороннего разоружения. Кто сидит в одной лодке с другими, должен плыть со всеми вместе. Я только хотел показать, что всякая вера в средства, негодность которых ясна как божий день, не заслуживает другого имени, кроме суеверия. Такой верой может жить только безумный мир. Образ общей лодки здесь очень уместен: лодка, в которой все народы плывут сообща, чтобы вместе спастись или вместе пойти ко дну.