 |
|
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОАОГИЯ 14 страница
тренних переживаний, главным образом эмоций и влечений, ходом которых определяется само сочетание реальных элементов в фанта- ] стические группы.
Хотя фантазия обычно представляется самой капризной, необъяснимой и беспричинной формой поведения, тем не менее она столь же строго обусловлена и детерминирована в каждой своей точке, как и все другие функции психики. Вопрос идет только о том, что причины, обусловливающие ее работу, лежат глубоко внутри человека и часто остаются не обнаруженными для сознания. Отсюда возникает иллюзия самопроизвольности и беспричинности в работе воображения. Но это только результат незнания мотивов, обусловливающих данную работу; приходится здесь назвать прежде всего наши влечения, оставшиеся не удовлетворенными в жизни. Они-то и являются настоящими источниками фантазии, и ими обусловлен второй принцип реальности фантазии. Закон этот можно формулировать так: независимо от того, реальна или нереальна причина, связанная с ней эмоция всегда реальна. Если я плачу над вымышленным героем романа, пугаюсь привидевшегося мне во сне страшного чудовища или, наконец, умиляюсь, разговаривая в галлюцинации с давно умершим братом, во всех случаях причины моих эмоций, конечно, не материальны, но мой страх, горе, жалость остаются совершенно реальными переживаниями независимо от этого. Таким образом, фантазия реальна двояким образом: с одной стороны, в силу составляющего ее материала, с другой — в силу связанных с ней эмоций.
Функции воображения
Из сказанного выше легко понять, что основная функция воображения заключается в организации таких форм поведения, которые еще ни разу не встречались в опыте человека, в то время как функция памяти заключается в организации опыта для таких форм, которые примерно повторяют уже бывшие ранее. В зависимости от этого у воображения намечаются несколько функций совершенно различной природы, но тесно связанных с основной функцией нахождения поведения, соответствующего новым условиям среды.
Первая функция имагинативного поведения может быть названа последовательной, и она представляет наиболее важное значение для педагога. Все, что мы познаем из небывшего в нашем опыте, мы познаем при помощи воображения; конкретнее говоря, если мы изучаем географию, историю, физику или химию, астрономию, да и любую науку, мы всегда имеем дело с познаванием таких объектов, которые непосредственно не даны в нашем опыте, но составляют важнейшие приобретения коллективного социального опыта человечества. И если изучение предметов не ограничивается одним словесным рассказом о них, а стремится проникнуть сквозь словесную
оболочку описания в самую их сущность, оно непременно должно иметь дело с познавательной функцией воображения, оно должно использовать все законы деятельности воображения.
Это значит, во-первых, что ни одно построение фантазии не должно быть вызвано прежде, чем учитель не будет обеспечен наличием в личном опыте ученика всех тех элементов, из которых должно быть построено требуемое понимание нового предмета. Если мы хотим вызвать в ученике живое представление о Сахаре, мы должны найти в его реальном опыте все элементы, из которых может быть построено это представление. Примерно: бесплодность, песчаность, огромность, безводность, жара — все это должно быть объединено одно с другим, но все это в конечном счете должно опираться на непосредственный опыт ученика. Конечно, это не значит, что каждый из элементов должен быть заимствован из непосредственного восприятия. Напротив, многое может быть заимствовано из обработанного и переработанного в мышлении опыта ученика, но все же, приступая к постройке нового вида представления, мы должны предварительно подготовить весь материал, нужный для построения, откуда бы он ни происходил.
Вот почему знакомство с наличным опытом ученика есть необходимое условие педагогической работы. Надо всегда знать ту почву и тот материал, на котором собираешься строить, иначе рискуешь выстроить непрочное здание на песке. Поэтому величайшей заботой учителя делается задача, как перевести новый и не бывший в опыте ученика материал на язык его собственного опыта. Джемс приводит интересный пример, который может хорошо пояснить, о чем идет речь.
Предположим, что мы объясняем в классе расстояние от Земли до Солнца. У нас в распоряжении, конечно, несколько способов. Мы можем просто сообщить ученику то количество верст, которое отделяет Землю от Солнца, но при этом следует иметь в виду, что такой способ едва ли достигнет цели. Во-первых, мы получим в результате голую вербальную реакцию, т. е. словесное обозначение; мы получим не живое знание о нужном нам факте, а только знание той формулы, которой этот факт обозначается. В самое же существо факта мы, таким образом, не проникаем. Блестящим подтверждением этому служит следующее: за время падения советской валюты дети привыкли ежедневно к обращению с громадными астрономическими цифрами, и многие учителя подметили, что, когда приходилось сообщать детям настоящие астрономические Цифры, это давало совершенно неожиданный эффект. Так, мальчик, услышав, что длина земного экватора равна 40 000 верст, сказал: «Так мало, столько же рублей стоит стакан семячек». Значение больших чисел было настолько скомпрометировано в личном опыте ученика, что детям было никак не понятно, почему это, когда хотят изобразить громадные расстояния, оперируют с такими цифрами, о которых у них сложилось впечатление, что это незначительные величины. Во всяком случае, даже если избежать этого отрицатель-
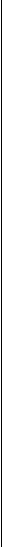 ного эффекта, все равно сама по себе цифра ничего не скажет воображению ученика, кроме того, что оставит в его памяти известную цифру.
ного эффекта, все равно сама по себе цифра ничего не скажет воображению ученика, кроме того, что оставит в его памяти известную цифру.
Правильнее поступил бы тот учитель, который, желая вызвать настоящее представление о величине этого расстояния, позаботился о том, чтобы перевести его на собственный язык ребенка. Джемс приводит такое объяснение, психологически и педагогически более рациональное: мы говорим ученику: «Представь себе, что в тебя выстрелили с Солнца, что бы ты сделал?» Ученик, конечно, отвечает, что он отскочил бы. Учитель возражает, что в этом нет ни малейшей надобности, что он мог бы «преспокойно лечь спать у себя в комнате и снова встать на другой день, прожить спокойно до совершеннолетия, выучиться торговле, достигнуть моего возраста — тогда только ядро станет к вам приближаться, и вам нужно будет отскочить. Итак, видите, как велико расстояние от Земли до Солнца». Такое представление сложилось бы у ученика из совершенно реальных представлений, бывших в его личном опыте, и заставило его измерить величину в совершенно доступных и понятных ему единицах. И быстрота полета пули, и громадная длительность времени, которая заполняется целой жизнью, по сравнению с той секундой, в которую надо отвернуться от полета пули, — все это совершенно точно знакомо ученику, и построенное на этом материале представление будет для него совершенно точным знанием, проникновением в факт. Этот пример показывает, в каких общих формах должно совершаться воображение для того, чтобы оно вело к познанию реальности. Оно всегда должно исходить из знакомого и известного, для того чтобы понять незнакомое и неизвестное.
Далее, второй закон фантазии требует, чтобы мы позаботились не только о материале, но и о его правильной комбинации. Закон реальности фантазии гласит, что реальна всегда эмоция, связанная с нашим построением. Поэтому надо призвать эмоцию и, передавая ученику какие-нибудь представления, надо позаботиться не только о материале, но и о том, чтобы у ученика была вызвана соответствующая эмоция.
Другую функцию воображения следует назвать эмоциональной; она состоит в том, что всякая решительно эмоция имеет свое определение не только внешнее, но и внутреннее выражение, и, следовательно, фантазия является тем аппаратом, который непосредственно осуществляет работу наших эмоций. Из учения о борьбе за общее двигательное поле мы знаем, что далеко не все находящиеся у нас импульсы и влечения получают свое осуществление. Спрашивается, какова судьба тех нервных возбуждений, которые возникают совершенно реально в нервной системе, но не получают своего осуществления. Само собой разумеется, что они получают характер конфликта между поведением ребенка и окружающей средой. Из такого конфликта возникает при сильном напряжении заболевание, невроз или психоз, если он не получает иного выхода, т. е. если он не сублимируется и не превращается в другие формы поведения.
И вот функция сублимации, т. е. социально высшей реализации неосуществившихся возможностей, выпадает на долю воображения. В игре, во лжи, в сказке ребенок находит бесконечный источник переживаний, и фантазия, таким образом, открывает как бы новые двери для наших потребностей и стремлений к выходу в жизнь. В этом смысле в детской лжи заключен глубокий психологический смысл, к которому должен внимательно присмотреться и педагог.
Эта эмоциональная функция фантазии незаметно переходит в игре в новую функцию: в организацию таких форм среды, которые позволяют ребенку развивать и упражнять свои природные склонности. Можно сказать, что психологический механизм игры всецело сводится к работе воображения и что между игрой и имагинативным поведением можно провести знак равенства. Игра есть не что иное, как фантазия в действии, фантазия же не что иное, как заторможенная и подавленная, необнаруженная игра. Поэтому на долю воображения в детском возрасте выпадает еще третья функция, назовем ее воспитательной, назначение и смысл которой — организовать повседневное поведение ребенка в таких формах, чтобы оно могло упражняться и развиваться для будущего. Таким образом, три функции фантазии всецело согласуются с ее психологическим свойством — это поведение, направленное на формы, еще не бывшие в нашем опыте.
Воспитание имагинативного поведения
Обычно считают, будто фантазия у ребенка находится в гораздо более ярком и богатом виде, чем у взрослого человека. Такой взгляд следует признать ошибочным по многим причинам. Одна из них, как мы видели, заключается в том, что главным источником имагииа-тивного поведения является реальный опыт. Поскольку запас реальных представлений у ребенка крайне беден, постольку и воображение его, несомненно, работает слабее и хуже, чем у взрослого. Отсюда понятно, что имагинативное поведение также нуждается в развитии и воспитании, как и все остальное.
Первая задача такого воспитания заключается в том, что на долю воображения выпадают те же функции, что и на долю памяти. Поэтому особенностью детского воображения является то, что фантазия ребенка не дифференцирована еще от его памяти. И та и другая возникают из воспроизведения реакций, и два момента обусловливают их слияние. Первое ■— весь опыт ребенка носит неустойчивый, неоформленный и невыработанный характер, и, следовательно, всякое воспроизведение будет до некоторой степени искаженным и неточным. При всем добром намерении и желании ребенок не в силах точно воспроизвести все детали своего реального опыта. Всегда происходит мимовольное искажение подробностей в зависимости от того, что ребенок не приметил или присочинил под влиянием чувства.


 Такое присоединение, такая искренняя ложь всегда будут присутствовать даже в воспроизведении взрослого. В этом отношении очень интересны и поучительны опыты над свидетельскими показаниями взрослых и детей: выяснилось, что невозможно получить точного и детального описания ни от одного очевидца, как бы точно он ни наблюдал факт и как бы честно ни стремился показать то, что он видел. В показании будут присутствовать многие элементы, привнесенные им от себя, в которые он сам свято верит. Для опыта детям обычно дается какая-нибудь картина или читается рассказ с опущенными деталями, и, когда после этого у них спрашивают про этот рассказ, дети обычно присочиняют подробности. То же самое происходит со взрослыми, если они присутствуют при каком-нибудь нарочито инсценированном скандале или инциденте и потом опрашиваются о подробностях случившегося. Оказывается, что не только бывают пробелы в памяти каждого и, следовательно, события уже приобретают в свидетельских показаниях несколько искаженный вид, но и каждый из свидетелей присочиняет от себя некоторые подробности и тем искажает факты.
Такое присоединение, такая искренняя ложь всегда будут присутствовать даже в воспроизведении взрослого. В этом отношении очень интересны и поучительны опыты над свидетельскими показаниями взрослых и детей: выяснилось, что невозможно получить точного и детального описания ни от одного очевидца, как бы точно он ни наблюдал факт и как бы честно ни стремился показать то, что он видел. В показании будут присутствовать многие элементы, привнесенные им от себя, в которые он сам свято верит. Для опыта детям обычно дается какая-нибудь картина или читается рассказ с опущенными деталями, и, когда после этого у них спрашивают про этот рассказ, дети обычно присочиняют подробности. То же самое происходит со взрослыми, если они присутствуют при каком-нибудь нарочито инсценированном скандале или инциденте и потом опрашиваются о подробностях случившегося. Оказывается, что не только бывают пробелы в памяти каждого и, следовательно, события уже приобретают в свидетельских показаниях несколько искаженный вид, но и каждый из свидетелей присочиняет от себя некоторые подробности и тем искажает факты.
Невольные искажения памяти особенно ярко проявляются у детей, и хотя психологическая природа обеих форм поведения одинакова, однако в реальном поведении на долю каждой из них выпадает своя специальная функция, и поэтому задачей педагога является провести возможно более точное разграничение фантазии от действительности. Сюда относится в первую очередь борьба с детской ложью, которую в целом отнюдь не следует понимать как ложь взрослых, т. е. как моральное преступление.
Детская ложь имеет своим источником внутреннюю правду эмоционального переживания. Дети лгут, и это есть общий закон детского поведения даже тогда, когда ложь не несет им никакой выгоды и не представляется для них необходимостью. Эмоциональная жизнь детей носит повышенно возбужденный характер; вследствие того, что страстность, как отметил Сеченов, является отличительным свойством детского возраста, ибо в этом возрасте еще не выработана сдерживающая сила, регулирующая поведение. Фантазия ребенка не знает удержу, самоконтроля и крайне импульсивна в том смысле, что послушно реализует каждое его эмоциональное хотение. Поэтому ребенок очень часто рассказывает не то, что было в действительности, а то, что ему хотелось бы в действительности видеть. Таким образом, ничто так не открывает нам детских желаний, стремлений и хотений, как их ложь. Джемс совершенно правильно называет детскую ложь «обманом честным образом», и Холл указывает, что детская ложь главным образом фантастическая и героическая и реже эгоистическая. В самом деле, каждая детская ложь вытекает из повышенно эмоционального состояния ребенка, и он естественно старается преувеличить патетическую силу события, как бы «героизировать» все происходящее в соответствии со своей повышенной страстностью. Другие детские лжи являются прямым отголоском желаний, как это бывает у взрослых:
ребенок лжет так же непринужденно и так же естественно, как видит сон. Каждую детскую ложь необходимо расшифровать и найти ее основание, и только тогда мы можем дать ей оценку и правильно отреагировать. В таком же точно положении находится и детская фантазия, вера в различные фантастические существа, которыми „запугивают их няньки, во всякую нелепицу, которую сболтнет им взрослый.
О вреде такого фантазирования говорится подробно в главе об эстетическом воспитании. Поэтому нужна самая большая и беспощадная борьба с недоразвитостью чувства действительности, и воспитание фантазии должно прежде всего идти по линии выработки уважения к действительности. Ребенок должен быть воспитан в величайшем уважении к реальности, но под реальностью не надо понимать тот маленький мирок, который окружает ребенка. Речь идет о большой реальности, которая окружает нас, если мы не хотим создать маленького обывателя и мещанина. Мы должны признать, что замкнутость в узком кругу ближайших интересов вырабатывает у детей и у взрослых мелкий размах, воробьиный взгляд на жизнь, ограниченность и самодовольство.
Уважение к большой реальности никак не может обойтись без выхода за узкие пределы личного опыта, а выход определяется при помощи имагинатииного поведения. Следовательно, борьба за реальность должна означать не уничтожение фантазии, но только требование, чтобы фантазия была введена в свои берега, в русло своих собственных функций, а имагинативное поведение строго обособлено и определено. Другими словами, необходимо, чтобы фантазия работала, но не надо забывать, что ты только фантазируешь. Опасности при имагинативном поведении сводятся к тому, что оно способно примирять все конфликты между реальностью и мечтой. Поэтому есть опасность отказаться от реальной борьбы и поддаться соблазну разрешения всякого трудного положения в мечте. Чрезмерная преданность мечтательности уводит от реального мира, ослабляет и парализует возможность активного действия, нарушает правильный отбор нужных реакций в организме, содействует выработке и выживанию социально вредных и жизненно нестойких реакций. Воображение чрезвычайно полезно, как слуга, и вредно, как господин, по выражению одного из психологов, потому что оно похоже на огонь.
Другая задача воспитания воображения заключается в том,
чтобы развить положительные функции, которые выпадают на
Долю фантазии. Детская игра — вот та сфера, в которой фантазия
находит свое наиболее полное обнаружение и где она протекает все-
Цело в своих собственных берегах. И не только ни в малой мере не
Подрывает чувства реальности, но, наоборот, развивает и упраж
няет все те навыки и реакции, которые служат выработке этого чув
ства. Все мы знаем, как бесконечно разны те роли, которые в дет
ской игре могут играть различные предметы. Комната может слу-
^ лесом, то палубой корабля, то гостиной, один и тот же стул
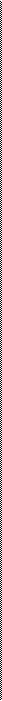 с одинаковым успехом может изображать и лошадь, и поезд, и обеденный стол. Но при этом игра совершенно безопасна тем, что, возбуждая реальные эмоции, воспроизводя вполне реальные элементы опыта, она все же откровенно остается игрой и не уводит ребенка от жизни ни в малой степени, а, напротив, развивает и упражняет те способности, которые будут необходимы для жизни. Интересно отмстить, что игра так сильно связана с фантазией, что дети предпочитают простые и грубые игрушки дорогим и роскошным, не оставляющим никакой работы для фантазии и требующим высшей осторожности в обращении с ними. Дорогая игрушка требует от ребенка пассивного отношения и не является тем объектом, который может служить хорошим материалом для развития фантазии. «Ни в каком другом периоде своей жизни, — говорил Гаупп, — ребенок не выучивается столь многому, как в годы своих детских игр» (1910, с. 146).
с одинаковым успехом может изображать и лошадь, и поезд, и обеденный стол. Но при этом игра совершенно безопасна тем, что, возбуждая реальные эмоции, воспроизводя вполне реальные элементы опыта, она все же откровенно остается игрой и не уводит ребенка от жизни ни в малой степени, а, напротив, развивает и упражняет те способности, которые будут необходимы для жизни. Интересно отмстить, что игра так сильно связана с фантазией, что дети предпочитают простые и грубые игрушки дорогим и роскошным, не оставляющим никакой работы для фантазии и требующим высшей осторожности в обращении с ними. Дорогая игрушка требует от ребенка пассивного отношения и не является тем объектом, который может служить хорошим материалом для развития фантазии. «Ни в каком другом периоде своей жизни, — говорил Гаупп, — ребенок не выучивается столь многому, как в годы своих детских игр» (1910, с. 146).
Недаром К. Н. Корнилов взял в качестве эпиграфа к исследованию психологии детской игры в куклы слова Р. Тагора. «Откуда пришел я, где ты нашла меня?» — спросил у матери малютка. Она ответила полуплача, полусмеясь, прижимая малютку к груди: «Ты был спрятан в сердце моем в виде желания, родной мой. Ты был в куклах моих детских игр».
Глава IX
МЫШЛЕНИЕ КАК ОСОБО СЛОЖНАЯ ФОРМА ПОВЕДЕНИЯ
Двигательная природа мыслительных процессов
Мышление принадлежит к числу самых трудных и малоразрабо-танных психологических проблем. До самых последних десятилетий господствовало убеждение, что мышление представляет собой, в сущности, только комбинацию более сложного и высокого порядка обыкновенных ассоциационных процессов, т. е. простой связи словесных реакций.
Однако уже тщательное самонаблюдение, поставленное под контроль эксперимента и точного измерения, показало, что состав мыслительного акта неизмеримо сложнее и включает в себя много таких моментов, которые присущи ему одному и не позволяют его сводить к простому и свободному течению образов. Параллельно с этими утонченными самонаблюдениями, поставленными и разработанными главным образом вюрцбургской психологической школой, шло изучение двигательной природы мыслительных процессов, т. е. уловление тех объективных симптомов мышления, которые поддаются внешней проверке и учету. И те и другие исследования
пришли к одним и тем же фактам (только с разных сторон) и позволили установить новый взгляд на мышление, от которого отправляется нынешняя психология как от исходной точки.
Прежде всего для нынешнего психолога совершенно ясна та сторона мышления, которой оно входит в систему поведения как совокупность двигательных реакций организма. Всякая мысль, связанная с движением, вызывает сама по себе некоторое предварительное напряжение соответствующей мускулатуры, выражая тенденцию реализоваться в движении, и если и остается только мыслью, то в силу того, что движение не доведено до конца, не обнаружено вполне и пребывает в скрытой, хотя и совершенно ощутительной и действенной форме.
Простейшие наблюдения показывают, что сильная мысль о каком-либо предстоящем действии или поступке совершенно мимо-вольно обнаруживается в позе или в жесте, как бы в подготовительных и предварительных усилиях, которые мы собираемся сделать. Простейший опыт состоит в том, что испытуемого сажают с закрытыми глазами между двумя какими-либо предметами, расположенными справа и слева от него. Испытуемому предлагается усиленно думать о каком-либо из этих предметов, и тогда, если условие выполнено добросовестно, не представляет особого труда по движению глазных яблок под веками, по напряжению шейной мускулатуры угадать, какой именно предмет задуман. Движение глаз и напряжение мускулатуры всегда совпадают с тем направлением, в которое обращена мысль. Они как бы выдают тайную мысль и позволяют угадать ее с безошибочной точностью, какую мы имеем при чтении.
Тот же опыт, обычно проводимый в школьной обстановке, требует от испытуемого, чтобы он с закрытыми глазами держал в руке груз, подвешенный на ниточку, и при этом старался думать и представлять себе, будто груз раскачивается справа налево. По прошествии нескольких минут эффект обычно сказывается в том, что груз действительно приходит в движение и именно в том направлении, в каком было задумано, хотя сам испытуемый обычно не может отдать себе отчет в тех движениях, которые он производит. Он продолжает утверждать, что держит руку совершенно неподвижно, и в самом деле движения осуществляются не «волевым» усилием руки, но главным образом кончиками пальцев, между которыми зажата нитка, и эти мельчайшие движения могут остаться не замеченными для самого испытуемого.
На большем усложнении этих фактов построено чтение чужих мыслей, которое заимствовано психологами у фокусников и эстрадных артистов, но, как и многое, пришедшее оттуда, получило совершенно неоспоримое признание и смысл для науки. Сущность его заключается в том, что кому-либо из лиц поручается задумать какое-нибудь более или менее сложное движение или ряд движений (взять известную ноту на рояле, взять какой-либо предмет у кого-либо из нескольких сотен присутствующих, передать его другому
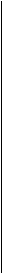

 лицу, написать нужное слово, перенести предмет, открыть окно и т. д.). Для контроля задуманное обычно записывается предварительно на бумажке. Чтец мыслей предлагает задумавшему возможно крепче и напряженнее думать, как бы стимулирует его мышление и затем путем несложных операций обычно безошибочно и без затруднения исполняет задуманное. Происходит как бы процесс считывания с мускулов задумавшего, вполне напоминающий настоящее чтение, т. е. восприятие системы известных внешних знаков, истолковываемых затем по их настоящему смыслу. Чтец обычно держит руки на плечах задумавшего, двигает его перед собой и без труда определяет то направление, в котором должно быть совершено задуманное действие. Двигая в неподходящую сторону, он натыкается на сопротивление мускулатуры, и, наоборот, когда нужное направление найдено, мускулатура выдает себя явной податливостью, как бы согласием на совершаемые действия. Так же она выдает себя в момент остановки или поворота, потому что податливость ее кончается, и рядом новых ориентировочных движений чтец выбирает поворот или остановку.
лицу, написать нужное слово, перенести предмет, открыть окно и т. д.). Для контроля задуманное обычно записывается предварительно на бумажке. Чтец мыслей предлагает задумавшему возможно крепче и напряженнее думать, как бы стимулирует его мышление и затем путем несложных операций обычно безошибочно и без затруднения исполняет задуманное. Происходит как бы процесс считывания с мускулов задумавшего, вполне напоминающий настоящее чтение, т. е. восприятие системы известных внешних знаков, истолковываемых затем по их настоящему смыслу. Чтец обычно держит руки на плечах задумавшего, двигает его перед собой и без труда определяет то направление, в котором должно быть совершено задуманное действие. Двигая в неподходящую сторону, он натыкается на сопротивление мускулатуры, и, наоборот, когда нужное направление найдено, мускулатура выдает себя явной податливостью, как бы согласием на совершаемые действия. Так же она выдает себя в момент остановки или поворота, потому что податливость ее кончается, и рядом новых ориентировочных движений чтец выбирает поворот или остановку.
Путем проб и ощупывания напряженных групп мускулов чтец узнает, какие именно движения заготовлены в мыслях испытуемого, и обычно детализацией этих приемов доходит до чрезвычайно положительных и сложных форм. Достаточно сказать, что таким путем с мускулов может быть разыграна целая пьеса на рояле, записано сложное арифметическое действие, совершена передача предметов в многолюдном театральном зале. Во всех случаях мы имеем действительное мускульное чтение, которое вполне оправдывает утверждение американского психолога, что мы мыслим мускулами. Этим психолог хотел только сказать, что всякая мысль в той или иной мере реализуется в мускульных напряжениях и без них мысли не существует.
Замечателен тот факт, что, чем сильнее и напряженнее мысль, тем яснее и сложнее ее двигательная природа. Напряженно думающий человек не довольствуется безмолвными словами, которые он произносит про себя. Он начинает шевелить губами, иногда переходит на шепот, а подчас начинает громко разговаривать сам с собой. Актеры хорошо знают, что психологически оправдать монолог — это значит предварительно сыграть сцену глубокого и напряженного раздумья. Тогда раздумье само собой незаметно разрешается в громкую речь. Обычно заметно это у детей, когда, поглощенные решением какой-нибудь трудной задачи, они начинают губами помогать своей мысли и в операциях сложения и умножения вдруг уже принимают деятельное участие и лоб, и щеки, и язык.
К этой же группе фактов относятся все явления автоматического письма, поразившие многих наблюдателей в так называемых спиритических сеансах. Что в вызываниях духов умерших мы имеем дело с несомненным наличием автоматического письма, остающегося не осознанным самими участниками сеанса, едва ли подлежит сомнению после тщательной проверки, произведенной многими учеными.
тл что здесь выступает наружу та же самая двигательная природа мысли, может быть обнаружено путем нехитрых опытов. Достаточно во время гладко идущего спиритического сеанса задать «ду-чУ„ т. е. в сущности присутствующим, такой вопрос, относительно которого мнения расходились бы или у присутствующих существовало бы заведомо ложное представление, чтобы в первом случае получился запутанный и противоречивый, а во втором — явно неверный ответ.
Если вы предварительно сообщите присутствующим, что ваша жена умерла в Канаде два года тому назад, хотя она благополучно здравствует в Европе, вы можете быть уверены, что на ваш вопрос о жене блюдце или спиритический столик выстукивает вам Канаду и смерть. Многочисленные опыты показали, что ответы находятся в прямой зависимости от того ожидания, которое их подготовляет и осуществляет. Сам процесс спиритического транса заключается не в чем другом, как в чрезвычайном напряжении мускулатуры пальцев и в постоянном онемении ее, так что они становятся не подотчетны нашему сознанию и, наоборот, чрезвычайно податливы для автоматического возбуждения мысли. Руки присутствующих обычно переплетены между собой так, что дрожь или движение, начавшееся в одном конце, легко распространяется и как бы переходит во всеобщее движение.
Давно установлен в психологии поучительный факт, что всякое представление о движении вызывает это движение. В самом деле, если предложить любому нормальному человеку пройтись по доске, лежащей на полу в комнате, вероятно, никто не затруднился бы согласиться на такое предложение и проделать опыт без малейшего риска неудачи. Но стоит только вообразить, что та же доска перекинута с шестого этажа одного дома на шестой этаж другого или где-нибудь над пропастью в горах, и число благополучных переходов по этой доске упадет до минимума. Разница в обоих случаях объясняется тем, что во втором случае у проходящего будет совершенно живое и отчетливое представление о глубине, о возможности падения, которое действительно и реализуется в девяти случаях из десяти.
На этом же основано психологическое значение перил на мостах, переброшенных через реки, которое тоже не раз разъяснено психологами. В самом деле, едва ли кому случалось видеть, чтобы перила на мостах спасали людей от падения, так сказать, физической силой своего присутствия, т. е. чтобы человек, идущий по мосту, действительно пошатнулся, а перила вернули его в устойчивое состояние. Обычно люди идут рядом с перилами, почти касаясь их плечом и Нисколько не наклоняясь в их сторону. Стоит, однако, убрать перила или открыть движение по недостроенному мосту, как непременно будут несчастные случаи. А самое главное, никто не отважится так близко идти по краю моста. Действие перил в данном случае чисто психологическое. Они элиминируют из сознания мысль или представление о падении и тем самым дают верное направление нашему движению.
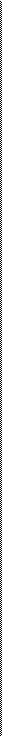 Это явление того же порядка, что и головокружение, и желание броситься вниз, когда мы глядим с большой высоты, т. е. стремление реализовать ту мысль, то представление, которое сейчас особенно отчетливо и сильно завладевает сознанием.
Это явление того же порядка, что и головокружение, и желание броситься вниз, когда мы глядим с большой высоты, т. е. стремление реализовать ту мысль, то представление, которое сейчас особенно отчетливо и сильно завладевает сознанием.
Вот почему наихудшим педагогическим приемом является усиленное и настойчивое введение в сознание воспитанника тех поступков, которых он не должен совершать. Заповедь «не делай чего-нибудь» есть уже толчок к совершению этого поступка в силу того, что она вводит в сознание мысль о подобном поступке, а следовательно, тенденцию к его осуществлению.
Торндайк чрезвычайно верно указывает на вред таких моральных заповедей, которыми пользуются учебники морали во французской средней школе. Подробное описание антиморальных поступков, от которых учителя хотят уберечь своих учеников, в сущности говоря, приводит только к тому, что порождает в сознании учеников известный позыв и стремление к совершению их. Вот почему было бы чрезвычайно вредно заниматься, как это делают авторы таких учебников, подробным объяснением и описанием того, почему не следует кончать самоубийством. Литература знает бесчисленное множество примеров таких положений и случаев, когда сильная боязнь или страх перед чем-нибудь вызывает именно то действие, с которым было связано опасение. Боязнь князя Мышкина в романе Достоевского «Идиот» разбить дорогую вазу на балу с сомнамбулической уверенностью приводит его именно к тому, что это случается, т. е. мысль, все время находившаяся в сознании, реализуется в действии. Нет лучшего средства заставить ребенка разбить стакан, как несколько раз сказать ему: «Смотри же, не разбей его» или «Ты непременно его разобьешь».