 |
|
ВТОРАЯ РУССКАЯ ШКОЛА
И тем не менее мы подошли к тяжелым для балета годам: передовые люди, люди культурные, отвращаются от танца, не только берут под сомнение принадлежность балета к искусству, но и открыто начинают его презирать. Это уже не XVIII век, когда танец столь же любимая отрасль искусства, как и все прочие, только что полученные из Европы, только еще расцветающие. Это не времена Дидло, когда и Пушкин и Державин аплодировали наравне со всем залом его «дивам искусства» и черпали в них вдохновение и для своего творчества. Это не времена тальонизма, когда неподкупный Белинский восхищается Санковской не менее, чем всем обожаемым им театром'.
А чтобы сразу погрузиться в мир нового отношения к балету, приведем тут же слова почтенного С. А. Венгерова, комментатора Белинского. Он так сконфужен за любимого автора, что делает сноску после разбора игры Санковской и спешит его оправдать: «Мы отвыкли от восторгов перед балетом. Но в те времена балет еще не выродился в специальное удовольствие для мышиных жеребчиков». Коротко и ясно!
Начиная с пятидесятых годов, в шестидесятых, в семидесятых, целая пропасть вырастает между запросами, идеалами ведущей художественной мысли и реальностью балетного дня. Связь балета с искусством все слабеет, теряется и наконец отмирает. Балет остается жить в нездоровой атмосфере узкого кружка балетоманов и ставшей уже в эти времена равнодушной к подлинному искусству светской и иной подражающей ей публики.
Для «просвещенного» человека балет становится чем-то недостойным, тешащим низменные вкусы жуиров в послеобеденные часы. Не тут ли коренится основная причина упадка в балете мужского танца? При такой концепции танцовщику действительно остается мало места.
Роль танцовщика сводится к поддержке, и в этой поддержке кавалер подчеркнуто стушевывается, галантно выдвигает даму на первый план, как бы участвует в общем омаже ее женским очарованиям. Весь интересующий нас период держится почти на одном танцовщике, П. А. Гердте, смена ему не приходит вплоть до изменившегося положения вещей следующей эпохи.
В эти годы Чернышевского, годы передвижников, годы натурализма и явной тенденциозности во главе балета стоят французы Сен-Леон и Петипа, люди невысокой культурности, о чем говорят их писания2. Они даже не на уровне Блазиса или Новерра; но в половинеXIX века было бы мало и той «просвещенности» вообще, начитанности и горения интересами искусства. Тут надо было уже иметь отчетливую «платформу»: или встать на сторону натурализма, или ответить ему с убежденностью импрессионизма. Ни Сен-Леон, ни Петипа этого не делают. Петипа ставит порой гениальные танцы, но чисто интуитивно. Как друг и советник руководит им Худеков, а обывательский уровень Худекова хорошо известен по компилятивной и хаотичной его книге «История танца». Петипа пользуется славой, но театрально-обывательской. Поймет Петипа следующая эпоха, сумевшая посмотреть на балет более серьезно.
Широкие слои театральной публики переносят свои восторги на вечера спектаклей итальянской оперы в том же Большом театре. Но и помимо этого музыка начинает играть большую роль в жизни, процветают «симфонические собрания», музыка питает тех, кто не может удовлетвориться натурализмом литературы и драматического театра тех лет. Это еще лишний предлог для отталкивания от балета — его музыкальный материал продолжает оставаться на уровне ремесленности.
Современные высказывания о балете могут привести в уныние совершенным непониманием этого вида искусства, неимением к нему никакого подхода, сплошным попаданием пальцем в небо. В эпоху тальонизма — восторги, романтическая экзальтированность от поэзии образов, захватывающих эмоций, которые несет балет и прославленные его представители. Во времена Дидло восхищение живописностью, фантастикой, прелестью видений. Что в те годы, шестидесятые, семидесятые?
Во-первых, гигант времени — Толстой. Его издевательское описание балета в «Войне и мире»3 даже не смешит, потому что и не похоже. Но отношение Толстого выявлено отчетливо — полное пренебрежение.
Возьмем наугад несколько рядовых высказываний уже мелких людей. Например, Зотов так прямо и выпаливает:
«Балет вовсе не принадлежит к изящным искусствам»!4 Типичны слова мелкого романиста семидесятых годов Гейн-це: «Наслаждение, доставляемое произведением человеческого ума и музыкальными гениями, может быть названо чисто духовным, сравнительно с находящим себе пищу в физической природе человека наслаждением, получаемым от
Возникновение и развитие техники 295 классического танца
созерцания пластики и грация поз. Меломаны, таким образом, могут смело считать театр частью своей духовной жизни, балетоманы — физической»5.
«Грация, изящество», да еще «выразительность», понимаемая в смысле выразительности драматического актера — вот мерила, прилагаемые к танцам. Этими понятиями донимают еще и Скальковский и Плещеев — «любители всего изящного». Из них Скальковский был одним из типичнейших «балетоманов», относившихся и к балету и к танцовщицам с узко «послеобеденной» точки зрения.
Но вот «честный» Баженов, честно смотрящий и на балет, но как безнадежно! «Некоторые упрекают г-жу Муравьеву в том, что ее танцам не всегда достает жизни и выразительности. С этим соглашусь и я; но я не поставлю этого в вину артистке и не потребую особенной выразительности и жизни в том, что слишком далеко от жизни и в чем ничего не выражается... (курсив наш.—Л. Б.). Что такое наши балетные танцы? Отдельные эпизоды, не имеющие ничего общего ни между собою, ни с сюжетом балета, с которым они не связаны ни предыдущим, ни последующим; это что-то отрывочное, стоящее особняком. Во всех этих придуманных танцах составители их, заботясь только о вычурности и замысловатости фигур, да об эффекте, или совсем ничего не хотят выразить, или хотят выразить невозможное, как, например, в балете «Сальтарелло» (во втором действии) одно испанское па должно, по программе, изображать момент боя быков и, разумеется, не изображает ничего. Возьмем, например, танец с веерами во 2-м действии «Корсара». Чем вызван он и к чему ведет в последующем развитии действия балета? Подобных отношений не ищите, — их нет... Потребуете ли вы выразительности от исполнительниц его? Я думаю, нет; вы даже не скажете, что должно выражаться на лицах танцующих, и потому не удивитесь, если увидите на них постоянную улыбку или, лучше сказать, осклабление, потому что постоянная улыбка неестественна»6.
Из огня да в полымя! С одной стороны, балету предлагается тешить сластолюбие балетоманов, с другой — попросту дублировать драматический театр или оперу. Так прямо и говорят критики, желающие говорить о танце «серьезно»:
«Драма и опера имеют целью изобразить характеры и жизнь в данный момент, посредством сценического представления. Балет как отрасль сценического искусства не может иметь иной цели»7. Потеряв до такой степени точку зрения на танец, тот же критик легко договаривается и до опереточного подхода к балету: «Несравненно высшее противу исключительно пантомимного балета наслаждение властен доставить такой балет», который «сопровождается хоральным пением... Пение, хотя бы и легкое, но изящное, должно освежить танцы на балетной сцене...»
Неоспоримый факт, познаваемый из истории балета: всякий раз, когда какая-нибудь эпоха теряет правильную точку зрения на сценический танец, забывает, что танец вполне самостоятельное средство выразительности, несхожей с выразительностью словесной мысли (с драмой), всякий раз, когда танец хотят принудить к роли вспомогательной функции в спектакле, имеющем общедраматические задания, всякий раз результат получается неожиданный: танец предпочитает сделаться совершенно бессмысленным, ударившись в пустую виртуозность.
В ответ на новерровское течение, доведенное до крайности Пьером Гарделем и более мелкими эпигонами, на французской сцене воцарилась такая вакханалия кружений, пируэтов и прочих трюков, что все журнальные статьи начала XIX века — это сплошной вопль протеста, пока не придет Тальони и не принесет чисто танцевальное разрешение балетного спектакля. По свидетельству современников, Тальони — плохая актриса; но степень выразительности ее спектаклей, пожалуй, до сих пор рекорд, не побитый в балете; позволяем себе на это указать, хоть мы и прекрасно знаем о невозможности устанавливать рекорды в искусстве и вообще от подобной сравнительности несоизмеримых величин воздерживаемся.
Второй яркий пример — приезд к нам Цукки в восьмидесятых годах с ее натуралистической игрой в балете, нашедшей многих защитников и пропагандистов: И сейчас же в ответ процвели тридцать два фуэте и прочие головоломки, в которых до тех пор наш балет не был грешен.
Так и в занимающие нас годы. Перро уже стремился к реальной драме; критика шестидесятых годов еще наддала. Немедленно результаты налицо: «...виртуозность на балетной сцене достигла в последнее время крайних пределов, а художественная сторона в современных балетах, т. е. грация, пластика, мимика, гармония и картинность в группах, отодвинуты на задний план. Действительно, танцовщицы выезжают ныне на технике, на эффектах, хореографы на декорациях, фонтанах, панорамах, стараясь придумывать для танцовщиц различные трудности а’1а Блонден»8.
«...Преобладающая во всем виртуозность, преувеличенная до крайней степени акробатизма, испортила в массе, по крайней мере парализовала всякое изящное чувство, и масса стала поддерживать акробатов на всевозможных поприщах. Храмы Талии, Мельпомены обратились в роскошные балаганы, в которых подвизаются всякие фокусники, шутники, вытесняя на задний план честных достойных двигателей искусства. Это почти общее направление века, господство виртуозности обняло вселенную, и только с недавнего времени люди, мыслящие сильно, начали протестовать против жалкого направления, и могущественная сила виртуозности пошатнулась. Скоро пройдет золотое ее времечко, но теперь она, подобно погибающему, хватается за все, чтобы спасти себя... В лирическом жанре яркие краски, декоративность, грубый колорит, пошлость, тривиализм поглотили все, и шарлатаны торжествуют... То же с большинством последователей Листа, превративших, как справедливо заметил кто-то в «Голосе», фортепьяно в барабан... В особенности грустное направление должно было отразиться на балете, здесь акробатизм царствует в полном значении слова. Вся премудрость, заключается в прыжках, в разных salto-mortale, в великолепных декорациях, электрическом освещении, богатых костюмах, и главное в выдающихся, соблазнительных формах танцовщиц в коротеньких юбках и прозрачном трико. О пластике, античной красоте форм забыто точно так же, как побледнел и поэтический элемент. Балеты превратились в бесконечные дивертисменты, бессмысленные сказки, поэзию заменила самая жалкая проза. Таким образом, хореографическое искусство ограничилось всякими пируэтами, подвигами на носках, недостает только каната»9.
Картина балетного танца и отношения к нему достаточно ясная, и мы можем прекратить цитирование современников. Если мы и злоупотребили в этом отношении вниманием читателя — это отнюдь не лишнее: надо знать подход критиков, их несхожие требования, чтобы разобраться в даваемых характеристиках танцовщицам и танцам интересующей нас эпохи второй школы русского танца. Вернемся несколько назад, к концу сороковых годов, на которых мы бросили нашу тему в предыдущей главе.
Имя, на котором полвека будет держаться весь русский балет, — Петипа. Начиная с 1848 года два Петипа, отец и сын, начинают работать в школе. Какую методику они привезли, к какому направлению принадлежат?
«С поступлением Петипа введена была новая школа танцев»10,— сообщает опять-таки Натарова, которой мы обязаны столькими точными сведениями. Нов для нас прежде всего танец на пальцах, которому не выучил старик Титюс. За обучение танцу на пуантах и принялись в школе, очевидно, достаточно энергично, раз выпущенная в 1855 году Муравьева славилась именно в мелком, подробном, Я кружевном танце на пальцах: «Она держится и ходит на носках с непоколебимою верностью, и самые трудные темпы передаются ею с легкостью и отчетливостью вполне замечав тельными...» «Ее пуанты баснословны».
Одновременно с Петипа приехал другой француз, танцовщик Гюге, который также с 1848 года учил в училище в 1 старшем классе женского отделения, как и Мариус Петипа.
Чей ученик Гюге, нам установить не удалось. Петипа же перед приездом в Россию и после долгих странствований not провинции Франции прожил некоторое время в Париже12, учился у престарелого Огюста Вестриса, т.е. укрепился в традициях исконной французской школы (Ф I), но привез ее уже в преломлении позднего тальонизма (Ф III), процветавшего в Париже.
Воплощением танцевальных вкусов Мариуса Петипа была его первая ученица — Суровщикова, впоследствии его, жена, прославившаяся под именем М. С. Петипа. Петипа и Д. Муравьева — две крайности танца, две равные в славе, звезды русского балета, до конца века ориентировавшие в, том или другом направлении последующие поколения. Третья из того же созвездия, Надежда Богданова, скорее типична для Парижа пятидесятых годов, где она училась: танец легкий, в традициях тальониевских полетов, но без ее строгости, неправильный, тот, на который так сетует Адис.
Поэтому мы постараемся собрать характерные черты для двух максимумов второй русской школы — посмотрим, что пишут о Петипа и Муравьевой.
Г-жа Петипа, «одаренная от природы невыразимой грацией... преимущественно отличается мягкостью, нежностью, черты лица несколько мелки для выражения сильных драматических моментов. Женственность, наивность преобладают во всем: это хореографическая ingenue, в игре ее заметно внутреннее чувство, но выражающееся тихо, без резких движений и без утомляющей игры мускулов»14. Далее рецензия говорит о «бархатности, мягкости, симпатии, которые составляют индивидуальность г-жи Петипа». Не будучи технически сильной виртуозкой, М. С. Петипа иногда танцевала очень хорошо, например 20 декабря 1864 года в «Ливанской красавице». «Г-жа Петипа была особенно в ударе ,в этот вечер, все ей удавалось как нельзя лучше, даже чрезвычайно трудное в техническом отношении pas de deux (во 2-м действии), взятое из балета «Корсар», когда она после двойного пируэта на кончиках пальцев падает в объятия г. Иогансона, исполнено было замечательно хорошо, без ущерба грации, пластики и выразительности»15. Это пишет не «петипист», А. П-ч делит свои симпатии между Петипа и Муравьевой поровну. Обратимся к этой последней, дающей больше материала для суждения о танце— все рецензии о Петипа вертятся вокруг ее очаровательности.

М. С. Петипа
«Хореографическое искусство доведено у нее (Муравьевой) до большого совершенства, быстрота, легкость и сила ног удивительные; ими делает она труднейшие вещи и целые pas на одних пальцах с необыкновенной свободой; грации, мягкости и воздушности в исполнении у нее много»16.
Это написано во время гастролей Муравьевой в Москве в 1861 году, на что немедленно последовала отповедь поклонника московской любимицы Лебедевой.
«Я не буду много распространяться о наружности г-жи Муравьевой, которая нравится многим. Но движения ее как будто принужденны, особенно, когда она действует руками; в них заметна какая-то угловатость и неловкость. Мимика и пантомима ее почти ничтожны. Но в чем действительно г-жа Муравьева является первостепенным талантом, это — в технике танцев... Все, что она делает, танцуя на носках, — изумительно, превосходно и осыпается рукоплесканиями. Все остальное— очень посредственно, и принимается или холодно, или даже вовсе не обращает на себя внимание зрителя»17.

М. Муравьева
Но такие мнения попадаются редко и не вяжутся с отзывами других: «Танцовщицы в то время отличались талантами. Воздушная Муравьева была выше всех. Это было что-то неземное. Плакать хотелось от умиления, когда она танцевала»18.
Муравьеву поминают добрым словом, даже говоря о других, берут ее мерилом: «Г-жа Гранцова — одна из лучших представительниц старой, доброй школы. Знаете ли, она в самом деле, напоминает М. Н. Муравьеву. Та же легкость, та же сила в ноге— стальная пружина, а не нога, та же быстрота, чистота отделки, непринужденность, та же грация... Точность изумительная!»19.

М. Мадаева
«Нечего и говорить, что г-жа Мадаева не могла делать всех тех па, которые доступны только ножкам г-жи Муравьевой»20.
Качество труппы во времена второй русской школы определяли не только танцы балерин. За весь этот период она блистала выдающимися солистками, разнообразию танцев которых следует уделить внимание.
«Петербургская балетная труппа, пользующаяся со времен Дидло заслуженною известностью в Европе, кроме двух знаменитых балерин и богатого кордебалета, имеет еще в своем составе несколько солисток, бывших воспитанниц петербургского театрального училища, которые были бы украшением любой из первоклассных сцен». «Г-жа Кемме-рер танцует типично, отчеканивает свои па; в танцах ее нельзя не заметить того, что французы зовут feu sacre. Сколько грации, неги, страсти и увлечения выказала г-жа Кеммерер в испанском танце из «Севильской жемчужины»; природной испанке не протанцевать лучше это па!»

А. Кеммерер
«Г-жа Лядова — грациозная и весьма даровитая танцовщица, которая особенно поэтична в аттитюдах и в адажио».
«Г-жа Соколова (М. П., 1-я. —Л. Б.) солистка, отличающаяся элевацией, необычайной легкостью и упругостью мускулов. Танцуя, она едва касается пола, ноги заменяют ей птичьи крылья в полном смысле этого слова. В танце четырех стихий, в балете «Теолинда», г-жа Соколова олицетворила собой как нельзя удачнее «воздух», исполнив свое труд- i ное соло исключительно в воздушном пространстве, едва не долетая до театральных облаков...»21. :
Интересна следующая характеристика этой танцовщицы по поводу ее прощального бенефиса: «Она у нас осталась почти единственной представительницею старой строгой классической школы танцев... Она принадлежит к так называемым «танцовщицам воздушным», которые вообще ныне весьма редки в Европе, между тем как балеринами, выезжающими исключительно танцами на носках и не отделяющимися от подмостков, хоть пруды пруди» 22.
Как мы далеки от того, чтобы считать тальониевскую летучую манеру за образец строго классический! Танцы на пуантах почитаются теперь как раз таковым.
О вариации в «Теолинде» вспоминала в разговоре с нами и Е. О. Вазем: «Вокруг всей сцены обошла, кабриоли назад; как по воздуху, так и пролетела...»
Продолжаем характеристику солисток.

А. Васильева
«Г-жа Васильева не уступает в легкости и силе г-же Соколовой, но жанр ее танцев разнообразнее, и в ней больше жизни, души».
«Г-жа Радина 1-я одарена счастливою сценическою наружностью, чрезвычайно эффектна в мужских ролях, которые она исполняет необыкновенно кокетливо и грациозно, как, например в «Грациелле» и «Теолинде».
«Г-жа Кошева... ухарски исполняющая характерные па и танцы genre grotesque...».
«Г-жа Мадаева — миловидная и грациозная солистка» (характерные танцы)23.
Упоминание о характерных танцах заставляет нас обратить внимание читателя на все усиливающуюся популярность этого балетного жанра. Натуралистические тенденции в искусстве неизбежно наталкивают на такого рода высказывания: «Избранное ею24 амплуа характерных танцев доказывало ее сознательное отношение к хореографии, так как только в этих танцах артистке дается простор выказать не только свои «стальные носки» и «удивительные пуанты» но и свою душу, вложенную в танец того или другого народа; только в характерных танцах балетная танцовщица стоит целою головою выше драматической актрисы, изображая не характер известного лица, а характер народа. В тан»| цах характерной танцовщицы должна всегда сквозить мысль, и она не может оставаться в рамках шаблонной балетной мимики».
«Потому-то у нас так мало характерных танцовщиц особенно теперь, когда в балет проникла итальянская школа акробаток и прежнюю плавность, пластику и грацию движений заменили чуть ли не головоломными сальто-мортале».
Поучительно приводимое ниже деление балетных танцев в начале шестидесятых годов. С одной стороны, мы видим, что уже сложилось pas de deux (хотя и без наших названий); сдругой стороны, завидна отчетливость и осознанность понятий «национальные» и «характерные» танцы: «Сценически танцы разделяются вообще на классические, национальные; характерные и на grotesque. Классические танцы, построенные по всем правилам искусства, называются иногда фран| цузами — danses nobles. Всякое строго классическое па со| стоит обыкновенно из четырех частей, именно: 1) «выход», соответствующий интродукции; 2) «адажио» (andante); 3) «аллегро» (соло) и 4) «кода», которая не есть финал, но соответствует, скорее, скерцо в симфонии или даже увертюре илиопере, которая, как известно, в сокращенном виде, выражает всю сущность целой лирической драмы. Примером классических па могут служить танцы в «Сильфиде», «Жизели», «Пери» и т. п. Национальные танцы вполне выражают характер, самую природу той или другой национальности, они, также как и народные песни, носят на себе печать исторического развития народа. Характерные танцы представляют смешение классических танцев с национальными или же отличаются каким-нибудь особенным характером, как, например, pas fellah и «Нева» в «Дочери Фараона». Танцы «гротеск» имеют преимущественно комический характер и представляют как бы нарушение правил искусства, сюда относятся некоторые преимущественно мужские па в «Пакеретте», «Тщетной Предосторожности» и т. п.»25.
Нам давно пора коснуться влияния итальянских виртуозок, о котором говорили некоторые рецензии. Мы неч можем присоединиться к ходячему мнению, что гастролировавшие у нас итальянки «занесли» и нам моду на виртуозность, что эта мода есть следствие подражания танцам Феррарис, Розати, Кукки, Сальвиони, позднее Гранцовой и Дор. Стремление к виртуозности — органический этап развития русской школы, реакция на натурализм, с одной стороны, на гедонистическое отношение к танцу —- с другой. Итальянки только явились вовремя, чтобы показать, как это делается и чего можно достичь. Чтобы дать образец танца гастролирующей виртуозки, возьмем из описания первого представления «Царя Кандавла» в бенефис г-жи Дор следующий отрывок, так как он более подробно, чем это принято в старых балетных рецензиях, называет исполняемые па: «Начнем с замечательного по постановке и по исполнению большого pas de Venus. Это классическое во всех отношениях па представляет целую хореографическую поэму; вдобавок оно переполнено небывалыми и невероятными трудностями, которые и Исполняются г-жой Дор в совершенстве. Вот для примера, несколько чудес и таких новых темпов, которыми французская балерина изумила не только публику, но, как нам сказывали, и самих артистов, ее товарищей по искусству: в грандиозном адажио делает она, между прочим, пять медленных оборотов, стоя, без всякой подпоры, на пальцах левой ноги, а правой ногой бьет в это время батманы, т. е. творит то, что еще даже и не снилось другим танцовщицам».

А. Гранцова
И дальше: «Быстрейшие двойные пируэты делает она в этом па почти без поддержки танцовщика, поднимая руки вверх. Не менее изумителен в конце коды и смелый ее скачок с полу на руки ее партнера, Адониса (г. Гердт)»26.
Возьмем еще рецензию о Гранцовой, которая интересна] тем, что отчетливо показывает, на что направляла Гранцова свою силу и виртуозность и как они отличны от современных. Описанные в рецензии места из танцев «Корсара» сейчас очень упрощены и сравнить их интересно: балерина теперь не взлетает прыжком ни на диван, ни на корзину цветов в «Оживленном саду» — ей помогают забраться.Узора на пальцах среди гирлянд цветов она не плетет, a делает простенькие pas de bourree. Разбрасывая цветы из рога изобилия, она просто стоит, а не делает поворотов в арабеске. Но, конечно, введенные бесконечные верчения на все лады, как в pas de deux в гроте, заменившем впоследствии pas des eventails, Гранцова не делала, хотя, судя по сложньм турам Дор, техника их была виртуозкам хорошо знакома.
«Все танцы в возобновленном у нас «Корсаре» сочинены заново г. Петипа, и некоторые из них вполне художественны. Восторженные аплодисменты заслужила г-жа Гранцова за исполненную ею вариацию в pas des eventails, особенно в| том месте allegro, где она делала так называемые «pas de'basque»; это верх совершенства, образец чистоты и отчетливости, а также легкости, положительно недоступной ни| одной из современных танцовщиц. Большой эффект произвела бенефициантка чрезвычайно смелым прыжком на диван, на котором она образует с Конрадом в сцене грота весьма оригинальную группу. Сильное впечатление произвело также на публику новое па «Le jardin anime» (в 3-й картине), поставленное г. Петипа на довольно, впрочем, бесцветную музыку Делиба. В этом па г-жа Гранцова делает просто чудеса: так, например, она рисует носками целые узоры, не выходя из положенных на пол цветочных гирлянд, потом несется по сцене с быстротой лани, наконец вскакивает на большую, наполненную цветами корзину, становится в «арабеск» и, делая несколько медленных оборотов, стоя на одной ноге, кидает букеты из рога изобилия»27.
Гранцова была благотворнейшим напоминанием о танце выразительном, танце тальониевского направления. Ее грандиозных успехов было бы достаточно, чтобы удержать наших танцовщиц от узкого подражания итальянкам. Но очень глубоко влияние итальянской школы и не могло изменить формы нашего танца, так как в Петербурге незыблемой была твердыня чисто французской школы в лице ее двух гениальных представителей — Петипа и Иогансона.

X. Иогансон
Вероятно, со слов Н. Г. Легата, которому Волынский обязан многими указаниями по истории и технике балета, он утверждает, что Петипа широко черпал материал для своего творчества у Иогансона, который вел старший класс на женской половине и класс усовершенствования артисток. Мы считаем наилучшим способом для характеристики Иогансона воспользоваться мастерским его портретом, сделанным А. Л. Волынским.
«Особенно выпукло рисуется нам фигура Иогансона, этого настоящего вождя мужского искусства на классической сцене. По происхождению это был человек холодного Севера — швед. Сейчас преподносится мне облик его уже старых лет. У него были маленькие ноги с большим подъемом. Он обувал их в прюнелевые дамские сапожки с резинами по бокам. Это было почти смешно, но чрезвычайно трогательно в человеке, который искал в танцовщиках во всем и всегда выражения мужского духа. Контраст личности и требований, исходивших от педагога, вносил в классные занятия элемент чудаковатости, не уменьшавшей, однако,
убедительности строгих менторских указаний и вместе с тем вводившей жизненную нотку в сухую работу. Это был человек ритма и абсолютного слуха. Он улавливал каждый дисгармонический звуковой штрих и все в танцах прилаживал к музыкальным директивам до такой степени, что не оказыва-лось ни одного хореографического слова, которое не было бы проникнуто музыкою, не было бы окончательно слито с ней. Он приходил в класс со скрипкою у плеча и при экзерсисных эволюциях, усложнявшихся все более и более, наигрывал старинные, мало кому известные балетные танцы — наивные, мелодичные, певучие отголоски какого-то фракийского Орфея. Иогансон даже и вне класса ходил,: распевая в полсвиста какие-то древние музыкальные мотивы, качаясь из стороны в сторону на согнутых коленях, точно проделывая переменное tombe вправо и влево. Наклоненный корпус и грудь впереди при свободно брошен- ных руках придавали всей фигуре черту серьезной стремительности. Весь насыщенный идеей движения, он казался выброшенным из музыки в мир реальности существом, для которого вне танца не было ничего. Все — танец, все — ритм, все — динамика плоти, передающей свет и бурю мужского духа. Иногда, когда в классе никого не было Иогансон сам становился к палке и проделывал часть экзерсиса. Вот когда можно было, подсмотрев в щелку приоткрытой двери, получить урок безукоризненно правильного учебного исполнения. Любознательные ученики это и пределывали с немалой пользой для себя.
Припомним еще несколько внешних черт, рисующих Иогансона в его физическом портрете. Брови у него были густые и нависшие над большими светло-голубыми глазами. Маленький горбатый носик. Рот красный и сочный, с коротенькими подстриженными усами. Все свидетельствовало о том, что это человек здоровый, не чуждающийся5 нормальных утех жизни. При этом кругленькая, маленькая, бархатная бородка — пушистая и мягкая. В разговоре Иогансон был невозмутим и ровен, в полную противоположность Чеккетти, который во всем и всегда оставался типичным и порывисто-экспансивным итальянцем. Иогансон не кричал на уроках, не шумел, никого не бил палкой. Зная анатомию и в совершенстве шведскую гимнастику, он свободно распоряжался средствами своих учеников, утилизируя их для движений, одновременно хореографических и акробатических. Он развивал в них силу, равновесие, выдержку и точность, не давал отдыха, воспитывал дыхание.
В классном зале он устраивал иногда целые лужи нарочито и для испытания эквилибристической ловкости своих учеников, рассыпая при этом канифоль по всему полу. Он требовал, чтобы учащиеся продолжали танцевать, невзирая на возникшие трудности. «Танцуйте, — говорил он. -— Скользко! Вы должны уметь броситься вперед, держа корпус на ноге. Тогда не упадете». Сам Иогансон был какой-то ходячий танец. В свое время, даже не в молодые свои годы, а уже пятидесятилетним артистом, он казался в своих танцах воинственным героем. Высокий, размашистый жест, строго и по-мужски повернутая голова, безукоризненно правильный epaulement, глубокое и быстрое рlie — пружинистое и вольное, и все в компактном целом, почти без остановки, столь обидной в мужском исполнении. Он взвивался на высоту без разбега, без трамплина, с места выкидывая ноги в строго выворотном рисунке. Все было хореографично, разнообразно, школьно и классично. Остановки на полу каменные, делавшие впечатление монументальных статуй Донателло. Мгновенно и незаметно сценический Аполлон выравнивал искривление покачнувшегося в воздухе тела. Иогансон делал изумительные револьтады, вышедшие в настоящее время из употребления единственно потому, что мужские танцы — в разлагающей атмосфере бисексуальных наваждений новейшего времени — вообще утратили свой натуральный вид. Был во всем танце Иогансона, кроме того, какой-то праздник, торжественный какой-то фурор, но без малейшего привкуса женского сахара. Это не мешало танцу оставаться пленительным, захватывающим, осиянным солнцем изнутри, но все в строго выдержанном мужском стиле»28.
Влияние Иогансона на русский танец решающее: он пересадил к нам и утвердил традиции французской школы, погибшие во Франции. Он, а не Петипа, так как получил более последовательное хореографическое воспитание. Учитель его Огюст Бурнонвиль, один из видных учеников Огю-ста Вестриса, особенно любил Иогансона и не раз приглашал его танцевать к себе в Копенгаген после уже законченного курса усовершенствования. Как мы видели, Петипа вполне считался с Иогансоном, получив сам случайное танцевальное развитие в своей кочевой семье провинциальных балетных артистов.
В семидесятые и до половины восьмидесятых годов во главе труппы стоят три крупных артиста: Е. О. Вазем, Е. П. Соколова и П. А. Гердт. Впоследствии все трое превратились в выдающихся преподавателей. Все они представители французской школы, разумеется, в ее сложном русском преломлении: у Вазем за плечами Муравьева, у Соколовой — М. С. Петипа. Петипа и Муравьева — поздний! цвет русского тальонизма, этот тальонизм коренится в первой русской школе, как мы видели, насквозь пронизанной стихией русской женской пляски.
Но все трое очень различны по индивидуальности, как в| бытность на сцене, так и в преподавании.
Е. О. Вазем — тип сильной танцовщицы. Без особого обаяния, без особой красоты и выразительности танца, не сильная в мимическом отношении, она сильно и правильно танцевала. Апломб был выдающийся. Приводим рассказ самой Вазем из дословно записанных нами разговоров: «В «Трильби», кончая адажио, я делаю два тура и останавливаюсь, нога вперед. Раз как-то кончаем с Павлом Андреичем (Гердт) — раздается прямо гром; ничего не понимаю — никогда это место не имело такого успеха. За кулисами Гердт мне говорит: «Так и не поняли? Я отошел от вас и не держал, вы одна стояли, а я был в стороне». Да, стоять я умела; иной раз даже не знаешь, что делать. В «Зорайе» Гердт стоит на коленях — держит меня за руку, а я наарабеске и должна упасть к нему на колени. Чувствую, что не могу, не могу выйти из точки. Говорю ему: «Дерните меня за юбку». Ну, тогда упала».
Впоследствии, в преподавании, Е. О. Вазем умела и в учениках развивать силу, прекрасно разрабатывала прыжок и сообщала танцу учеников строгую правильность.
Е. П. Соколова довела почти до крайности линию М. С. Петипа: красивая, грациозная, кокетливая, с прекрасными мягкими руками, она строила свои танцы на этих качествах. Это опаснейший из уклонов второй русской школы, и становится жутко, когда слушаешь рассказы о знаменитой вариации Евгении Павловны в «Трильби». Она танцевала ее на самых простеньких па, всю выразительность перенеся в руки. Начиналась вариация уходом по диагонали от левой ложи, причем артистка лукаво манила «пальчиком» из этой ложи, кокетливо покачивая головкой29. Если Соколова и удержалась в пределах художественности благодаря строгой школе и опеке Иогансона, то это уже последняя грань — дальше грозит бесформенная тривиальность.
В преподавании специальность Евгении Павловны была отделка танца. К ней не обращались для выработки техники и силы, но во времена Чеккетти, во времена итальянской его резкости, все его ученицы неизбежно искали шлифовки у Соколовой. Через обработку Соколовой прошли решительно все до единой как балерины, так и другие выдающиеся танцовщицы первых двух десятилетийXX века во главе с Анной Павловой.

Е. Соколова в балете «Трильби»
Слава П. А. Гердта до сих пор не померкла в преданиях нашей труппы. «Легкий, как перо, и вместе с тем с на редкость технически развитыми ногами и правильно поставленным корпусом, П. А. отличался при исполнении танцев отличной музыкальностью, а также тонкой салонной distinction, что, вместе взятое, поставило его в нашей труппе на исключительную высоту как премьера элегантного, неподражаемого, незаменимого. Немало способствовала красоте его танца и его наружность — светлый блондин с серо-голубыми глазами, он обладал правильным профилем лица и чрезвычайно красивыми, стройными ногами, что отлично гармонировало с его мастерским исполнением, сообщая ему редкую живописность»30. Впоследствии Гердт стал лучшим из наших исполнителей мимических партий и преподавателем на женском отделении, а также мимики и поддержки. Но главное значение Гердта в нашей труппе — это заданный им тон мужскому исполнению. До сих пор все наши премьеры стремятся к воплощению гердтовских канонов.
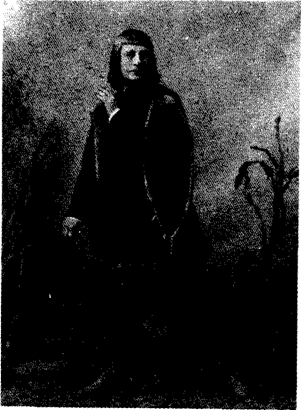
П. Гердт
Нам пришлось перебрать с некоторой подробностью раз-| личные элементы второй русской школы как материал, еще| мало систематизированный и редко подвергающийся обсу-| ждению. Попробуем извлечь характерные черты и сформу-| лировать особенности этой второй нашей школы. й
Всякая отрасль человеческого творчества в процессе развития переживает дифференциацию первоначального единства. Если ученые эпохи Возрождения энциклопедичны, охватывают не только все знание своего времени, но зачастую являются и большими художниками, как Леонардо да Винчи, то по мере развития истории научные отрасли все более дифференцируются вплоть до того, что сейчас мы видим специалистов по какому-нибудь виду комара. То же и в искусстве.
В XVIII веке, как мы видели, неотделима в танцовщике даже специальность бальных танцев, не говоря о русской пляске, которую исполняют премьеры и премьерши. Во времена Дидло и следующие годы, если и отпадают бальные танцы, то национальные и характерные еще не выделяются в особую специальность. Балерины Андреянова и Фанни Черрито не менее знамениты как исполнительницы характерных танцев, не говоря уже о Фанни Эльслер.
Эпоха второй русской школы приносит дифференциацию специальностей.
С одной стороны, всякая классическая танцовщица культивирует свой особый жанр танцев. «Тогда все солистки были разные, совсем разные, — рассказывала нам Е. О. Вазем. — Возьмем Прихунову; всякий знал, что так благородно, так пластично, спокойно и с достоинством никто не протанцует, как она. Другая хороша в мелких па, третья так и летала по сцене, четвертая поражала своими batteries (заносками)».
С другой стороны, характерные танцы выделились и в особую специальность — громадный шаг вперед на пути к симфонизации танца. Путь далек от завершения еще и в наши дни, нельзя сказать, чтобы классический танец сразу освободился вполне от налета черт характерного. Эти реминисценции долгой слитости обоих жанров и чувствуются чрезвычайно долго. Причем взаимоотношение тут было двустороннее. По мере того как классический танец освобождается от черт характерного и подымается на уровень условного языка искусства, близкого по значению к языку симфонической музыки, характерный танец в свою очередь освобождается от черт классического, театрального танца и приближается к стихии народных, национальных танцев — неисчерпаемому источнику для вдохновения, подобному песенному богатству народов. Для обоих видов танца отчетливое их разделение — явление крайне благотворное.
В самом деле, когда мы просматриваем вереницы фотографических изображений балерин и солисток шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов, что привлекает наше внимание, в чем их отличие от предшественниц и от балерин последующих [поколений]?
Романтические сценические портреты танцовщиц рисуют нам не столько бытовых, реальных женщин, сколько какие-то «существа». Таким «существом», очевидно, и стремились быть танцовщицы независимо от того, в каком танце себя проявляли, классическом или характерном.
Шестидесятницы и семидесятницы очень как-то «осели». Прежде всего в буквальном смысле: корпус не поддерживается, не стремится вперед, не стремится быть легким, как у тальонисток. Нет, и Муравьева, и Петипа, и Вазем, и Соколова, и все их окружение держатся очень комфортабельно, солидно, корпус не беспокоят, он как-то именно «осел» на бедра. Отсюда и производимое ими впечатление — такие же уютные, как наши прабабушки в кринолинах. В чем артистизм этих обликов? На лучших фотографиях М. С. ПетипаЯ ощутима тонкая грация всей линии. В Муравьевой есть строгость, собранность минутного покоя, в сосредоточенном^ лице готовый переплеснуться динамизм. Но вот на фотографиях Вазем и Соколовой прежде всего видишь руки, руки, столь типичные для всего этого периода нашего танца. В руках и застрял характерный танец.

Е. Вазем в балете «Баядерка»
Руки — наиболее привычная для выразительности часть тела, руки дают окраску всему облику, а эти руки еще ровно ничего не поняли. Руки часто брошены совсем по-простому, по-домашнему, без мысли и без ощущения позы. Что держит балерина: шарф или кухонное полотенце? Иногда в них явственны какие-то кастаньетные, тамбуринные локти, при-согнутые, без ощущения кисти и тем более пальцев. «Андалузские руки», о которых говорит Адис. В этом и есть неизжитая связь с характерными танцами. Кисть руки — завершение классической линии танцовщицы. Пока танцовщица не ощутит руку до конца ногтей, она не развернет до конца и свою линию, т. е. не овладеет главной основой выразительности классического танца. Но овладение линией потеряно после Тальони; этот вопрос вновь будет разрешен гораздо позднее.
Если от кисти рук мы обратимся к ступне этих балерин, то наш скептицизм сменится чувством зависти к их зрителям. Ступня — такое же завершение выразительности ноги. От совершенства ступни зависит гармоничная законченность движений ноги и линии поз. Маленькая ступня дает большую линию, большая ступня линию разбивает, тормозит глаз. И вот первая, чисто еще биологическая черта: очень маленькая, хорошо сформированная ступня — широко распространенное явление в период второй русской школы.
Но и то, что зависит уже от вкуса и правильного понимания своих задач самих исполнительниц, дает и тут несомненный перевес этим шестидесятницам противу наших современниц. Это — выбор обуви и манера ею пользоваться в танцевальных целях.
Окинем беглым взглядом эволюцию балетного башмака. В XVIII веке танцуют в шелковых туфельках с каблучком, совершенно похожих на обыкновенный бальный башмак того времени. В эпоху Дидло продолжают носить легкую обувь, возникшую во времена революции. Легкая подошва, небольшой носок из атласа, задник и сандальные переплеты лент.
Башмак Тальони описан В. Светловым: «Стоит вдуматься в башмачок Тальони, он сделан не из прочного розового атласа, как нынешние, а из легкой шелковой ткани; три розовые ленточки обтягивают переднюю его часть, чтобы сдерживать легкую материю. По бокам и под низом носка он заштопан, как у большинства наших балерин, но не суровыми нитками, а тоже шелком; ленточки, охватывающие подъем и щиколотку, очень узенькие и легкие, даже не подшитые полотняной тесьмой»31.
Башмак, созданный для беззвучных пробегов, для удобства прыжков.
Туфли Е. П. Соколовой, которые мы видели, работы знаменитого Крэ (Crai) в Париже, из плотного розового атласа, но безо всякой прокладки в носке. Они плотно и очень тщательно проштопаны; тесемка подшита не только под ленточки, но и вдоль борта туфли. Туфли очень легки и имеют элегантный, очень законченный вид, что не всегда скажешь про современный балетный башмак.
Туфли нашего времени известны: тяжелое ортопедическое приспособление с жесткой подошвой и целым бугром на пальцах. Твердый носок башмака набивается еще ватой, которая комкается, сбивается с места после нескольких па и придает ступне патологическую, уродливую форму. Такой башмак громыхает по деревянному полу сцены, как только оркестр переходит на умеренное звучание или тем более на пиано. Преимущества возможности осуществления сложных трюков на пальцах никак не покрывают антихудожественности бесформенной, мертвой ступни. Вставать на пальцы, делать на них перебеги, танцевать целые вариации на пальцах можно и в мягком башмаке, как мы видели на примере Муравьевой.
Те, кто помнит времена, когда танцевали у нас в этом старинном мягком башмаке, рассказывают вещи, которым, по правде сказать, порядочно завидуешь. Пробеги по сцене были беззвучные и легкие, можно было легко двигаться и на полупальцах в таком башмаке. Все, что делалось на пуантах, делалось на остром-остром носке, очень высоко, чего мы никогда не видим из-за комка ваты, на котором танцуют и который, как мы уже указывали, так обесформливается после последних па, что иногда и не поймешь ничего — стоит ли танцовщица еще на пальцах или уже потеряла их? Перед выступлением подошву хорошенько обминали, чтобы она позволяла гнуть ногу, не скрывала игры свода ступни, подъема. Когда в grand pas из «Пахиты» все танцовщицы выстроились в ряд, вынимают и ставят вперед ногу, как бы любуясь ей, это было действительно прекрасное зрелище, «точно выставка драгоценностей», по образному выражению нашей талантливой собеседницы: выгнутые, живые подъемы с чувствующими точку опоры пальцами — выставка если не драгоценностей, то по крайней мере отшлифованных, выразительных «орудий производства».
Преподавание в начале второй русской школы было в руках Петипа и Гюге на женском отделении и Жана Петипа на мужском.
Мнения о Гюге расходятся: Е. О. Вазем считает его хорошим учителем, Е. П. Соколова, наоборот, отрицала его методы и говаривала, что «он покалечил немало ног».
В семидесятых и восьмидесятых годах ведущая величина в преподавании — Иогансон. Иогансон — носитель величайших традиций — вырабатывал прекрасных танцовщиц, как М. Н. Горшенкова. Но охвативший всё искусство застой восьмидесятых годов жестоко отразился и на балете.
Балетмейстер никуда не вел, к танцу не предъявлялось никаких серьезных требований. Не двигаться вперед для искусства равносильно тому, что катиться назад. Русский танец прозябал. Формы его дряблы, облик танцующих прозаичен, техника ослаблена. Забыты победоносные выступления в Париже М. Н. Муравьевой, забыта ее точность, сила, быстрота. Забыты бурные восторги, вызываемые М. С. Петипа. Иностранных же гастролерш давно нет и в помине. Эти восьмидесятые годы — одно из наиболее тусклых десятилетий в нашем классическом танце.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: Под ред. С. А. Венгерова. Т. 4, 1901,с. 115—120, примеч.97,с. 520.
2 Saint-Lean A. Stenochoregraphie ou 1'art d'ecrire promptement la danse. Paris, 1852; Portraits et biographies des plus celebres maitres de ballets. Paris, 1852; Петипа М. Мемуары. Спб., 1906.
Считаем нелишним поместить тут краткую биографию Сен-Леона, вообще мало известную, из Русской сцены, 1865, № 8, 31 /X: «Сен-Леон, Михаил, один из даровитейших хореографов нашего времени, родился в Париже 17 сентября 1821 г. и воспитывался в Штутгарте, где его отец исполнял в продолжение 23-х лет должность придворного учителя танцев и церемониймейстера. Еще бывши ребенком, выказал он удивительные музыкальные способности и четырех лет от роду стал учиться играть на скрипке; достигнув 14 лет, начал обучаться по желанию отца танцам у Альбера в Париже, к которым также обнаружил большое расположение, и, наконец, 17 лет поступил первым танцовщиком на сцену Брюссельского театра; потом он танцевал в Турине, Флоренции, Милане, Парме, Болонье, Риме и девять сезонов сряду в Лондоне и везде обращал на себя внимание знатоков своею необычайною легкостью и выразительной мимикой. Репутация Сен-Леона как первоклассного танцовщика уже установилась, когда он поставил в Вене свое первое хореографическое произведение «Сила искусства», которое доставило ему громкий успех на новом поприще композитора балетов. В 1847 году дебютировал он с громадным успехом на Большой парижской опере, где и поставил «Мраморную красавицу», «Маркитантку», «Контрабандистов», «Пакеретту» и «Чертову скрипку». Из других балетов г. Сен-Леона назовем «Метеору», «Севиль-скую жемчужину», «Грациеллу», «Процесс Фанданго», «Сальта-релло», «Фиаметту» и «Конек-Горбунок», а из дивертисментов:
«Пчелы вечного Жида», «Блудный сын» и, наконец, сочиненные им нынешним летом для г. Бажье, импресарио итальянской оперы в Париже: «Дон-Зефиро», «Четыре стихии», «Валахский праздник» и «Le Basilic»; вообще он поставил на разных европейских сценах 152 художественных произведения и написал до 50 музыкальных пьес: плодовитость и деятельность поистине изумительные! В 1845 году г. Сен-Леон женился на известной танцовщице, черноглазой уроженке Кадикса, Фанни Черито, с которой и перебывал в Берлине, Вене, Пеште, Эдинбурге, Брауншвейге, Мадриде, Мюнхене, Кенигсберге, Бреславле и Дрездене. Г. Сен-Леон изобрел так называемую «стенохореографию», т. е. искусство выражать на бумаге танцы пятью знаками на 6 линейках, которые он посвятил императору Николаю Павловичу. Особенная заслуга его как балетмейстера петербургской балетной труппы заключается в том, что он познакомил нас в своих произведениях, хотя и не совсем удачно, с танцами различных национальностей — и тем заслужил вполне название хореографа-этнографа».
3 Толстой Л. Н. Война и мир. М.;Л., 1935, с. 635—636. :
4 Зотов Р. М. Записки. — Исторический вестник, 1896, № 8, с. 302.
5 Гейнце Н. Э. Герой конца века. Спб., 1896. Ч. 1. Большой театр, с. 5.
6 Баженов А. Н. Сочинения и переводы: В 2-х т. М., 1869—1870. . Т. 1, с. 74 (Московские ведомости, 1861, № 23).
7 БочаровИ. Значение балета. —Якорь, 1864, № 11. ;
8 А. П-ч. [Ушаков}. Балетная хроника. — Русская сцена, 1865, № 1, с.101.
9 М. Р. [аппопорт]. Театральная летопись. — Сын Отечества, 1864, № 288, 2/XII.;
10 Натарова А. П. Из воспоминаний артистки А. П. Натаровой. — Исторический вестник, 1903, № 10—12, с. 43.
11 А. Сх. М. Н. Муравьева. Спб., 1864, с. 15.
12Петипа М., с. 14. ;
13 А. П-ч [Ушаков]. — Русская сцена, 1865, № 3, 4 / X. Дебют П. П. Лебедевой. «Г-жа Лебедева немного горбится на сцене, как ? бы скрывая свой рост, а также, подражая парижским танцовщицам, танцует иногда с согнутыми коленками; это, как мы уже заметили отличительная черта французской школы, которая, признаемся откровенно, нам вовсе не по сердцу; наш глаз, избалованный прямизной линий, не терпит кривизны, зигзагов и подгибаний а 1а Богданова и ей подобных».
14 М. Р[аппопорт]. Театральная летопись. — Сын Отечества, 1864, № 288, 2 / XII. Из заграничных рецензий: Le Mercier de Neville. Les figures du temps. Marie Petipa, Paris, 1861; Lassalle A. de, Thoinan E. La musique a Paris, 1863, p. 36: «С тех пор, как мы видели г-жу Петипа, наши взгляды на танец несколько изменились. Мы уже не безраздельно восхищаемся тем, что зовется «стилем» и «добрыми традициями», и начинаем предпочитать небрежность, свободу и очаровательнейшую беспорядочность, из которых слагается своеобразный талант г-жи Петипа... Г-жа Петипа" не очень-то церемонится со всеми традициями, на которых она, вероятно, и споткнулась бы; она делает все, как хочет, где хочет и когда хочет. Отсюда ее действительно оригинальный талант, так сильно украшенный бесспорной красотой».
15 А. П-ч. {Ушаков}. Балетная хроника. — Русская сцена, 1865, № 1. с 99.
16 Баженов А. Н., т. 1, с. 74.
17 Лочгинов М. Н. — Московские ведомости, 1861, № 26.
18 Шуберт А. И. Моя жизнь. — Ежегодник Императорских театров 1912,т. 2, с. 99.
19 Дебют г-жи Гранцовой. — Русская сцена, 1865, № 14, 23/XI.
20 В «Коньке-Горбунке». См.: А. П.-ч. [Ушаков}. Балетная хроника.— Русская сцена, 1865, № 2, с. 227.
21 Там же, с. 216.
22 Голос, 1868, № 32, I/II (Петербургская хроника).
23Русская сцена, 1865, № 2, с. 217—218.
24 Отрывок относится к Маргарите Гранпа в романе Гейнце «Герой конца века» (с. 13—16). Под этим именем с портретным сходством выведена М. М. Петипа, блиставшая наравне с балеринами своего времени. Поэтому приводим и следующие строки, а за указание на этот роман благодарим Н. И. Насилова: «Высокая, стройная блондинка, с тем редким цветом волос, который почему-то называется пепельным, но которому собственно нет названия по неуловимости его переливов, с мягкими нежными чертами-лица, которые не могут называться правильными лишь потому, что к ним не применимо понятие о линиях с точки зрения человеческого искусства... Такой красавицей была Маргарита Гранпа. В ней был не талант, а гений танцовщицы».
25 А. П.-ч. [Ушаков}. Балетная хроника. — Русская сцена, 1865, № 4, 17 / X. Как всегда, содержательная рецензия этого автора содержит далее указание, о котором можно подумать: в Париже и Милане не дают ученицам танцевать характерные танцы, пока они совершенно не окрепнут. Интересна справка: на экзамене в Париже принято pas de la Vestale — из оперы этого названия. И дальше: «современный балет имеет вообще много сходства с современной итальянской оперой, с вердиевщиной преимущественно... О целом не заботятся».
26 А. У. — Голос, 1868, № 289, 19 / X. Еще читаем («Голос», 1868, № 320): «Все, например pas de Venus, совершенно изменила г-жа Вергина; исчезли и восемь оборотов на пальцах левой ноги, и пируэты-вихри, и воздушные кабриоли, и другие чудеса, которыми г-жа Дор изумляла знатоков хореографического искусства».
27 Голос, 1868, 27/1. (Петербургская хроника).
Приводим ниже найденные нами в архиве Вальца (Театральный музей в Москве, ф. 43, ед. хр. 82, № 163216) письмо к нему декоратора М. Шишкова, рисующее несколько иначе некоторые постановочные моменты «Оживленного сада»; общая планировка всей этой сцены, как явствует, соответствует современному ее исполнению: «Многоуважаемый Федор Карлович. Письмо Ваше получил во вторник, и, к счастью, на другой день шел «Корсар» в последний раз на масленице, и я, посмотрев его, спешу дать Вам желаемые Вами сведения; собственно Сада в балете нет, а в 3-м действии стоит турецкий зал ("старый), и в арку видно здание с минаретами и куполами, около которого растут пальмы и цветочные кусты, вся декорация старая, а сад составляют в конце картины кордебалет из бутафорских вещей, как-то: корзин с деланными цветами, куртины, деланные, вероятно, Гавриловым, по окончании танцев кордебалет составляет группы, и среднюю большую корзину поднимают арабчики, составляя под ней живые кариатиды, и Гранцева через люк поднимается в середине корзины, выходит как бы из цветов, вертится тихо кругом (стоя, вероятно, на вертящейся из трюма какой-нибудь шпонке) и бросает кругом цветы (завеса опускается), а сад делают так: кордебалет, делая группы, заслоняет собой сцену, в это время выносят из-за кулис куртины и корзины, ставят быстро на сцене, кордебалет раздвигается, и публике является сад так (следует зарисовка, вполне соответствующая по плану стоящим и сейчас в этой сцене клумбам. —Л. Б.). Впереди узором набросаны гирлянды. (Зарисовка декорации, в общем похожей на теперешнюю, но без залива. —Л. Б.). Зал в таком роде: тон его коричневатый и весь в золотых орнаментах, план так (дает план. — Л. Б.). На арках изображены своды на четырехугольных столбах, кулисы просто, только круглые толстые колонны, украшенные золотыми орнаментами, а сзади колони драпировка залы, обе стороны одинаковые. Корзины обыкновенный! с деланными цветами (рисунок. —Л. Б.). Ц С уважением остаюсь готовый к Вашим услугам М. Шишков. '| ...Извините, что не исполнил еще прежней Вашей просьбы, очень| был занят, совершенно не было время, будет исполнено скоро.1 7 февраля 1868 года». |
28 Волынский А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца.э| Л.,1925,с. 163—164. Ц
29 Рассказ очевидца.
30 Насилов Н. П. А. Гердт (1844—1917). — Еженедельник петроград.Ц гос. академ. театров, 1922, № 9, с. 24—30; № 10, с. 39—46. ,.1
31 Светлов В. Тальони в Петербурге. — Библиотека театра и искусстваД кн. 1—2. Спб., 1913. Кн. 4, с. 9. Натарова (указ. соч., № 11, с. 422) говорит, что у нас «для балетов давали шелковые башмаки, танцовщицам — на лайке, а воспитанницам — на крашенине. В первый раз носили их нештопаные».
ЧЕККЕТТИ
Двенадцать лет (1873—1885) Петербург не видал заграничных танцовщиц. На смену Вазем и Соколовой не приходило равноценных величин. Интерес к балету падал из года в год даже среди узко театральной публики. В общей массе людей искусства балет по-прежнему остается в пренебрежении, но есть уже просветы, как отношение к балету Чайковского1. В искусстве вообще началось брожение и повеяло новым.
Серов и Врубель оканчивают Академию и начинают работать, «Северный вестник» под редакцией Волынского открывает новые перспективы на литературу. Но и Волынский в этот период еще очень далек от балета.
Хотя и в балете в связи с общим движением в искусстве также неизбежен стал сдвиг, подготовлялся он медленно и издалека и на этот раз ему суждено было прийти извне.
Инициатива частных антрепренеров не только одним ударом пробудила к танцу живейшее внимание, но вызвала целые бури полемики, восторгов, разногласий, правда, по-прежнему в узких кругах. В 1885 году начались гастроли Вирджинии Цукки в летнем саду «Кинь-грусть»2. Часть зрителей и прессы превозносили Цукки до небес, другие подвергали ее уничтожающей критике; во всяком случае, каждый театрал должен был видеть Цукки, и интерес к балету был поднят до предела в глазах театральной публики. За Цукки последовали Мария Джури, Флиндт, Дель-Эра, Зоцо, Бессоне, Лимидо, Брианца, Корнальба, Альджизи, Белла и т. д. Часть этих балерин после триумфов на летних сценах получала ангажемент в Мариинский театр. А кончилось все тем, что снова сезон без итальянской балерины стал казаться немыслимым. Пьерина Леньяни была приглашена прямо в Мариинский театр и оставалась во главе труппы восемь лет (1893—1901). Этот поток итальянских виртуозок, показавших танец, уже резко отличавшийся от танца балерин русской школы, имел глубочайшее влияние на дальнейшие судьбы нашего балета. Все молодые силы балета встрепенулись, почувствовали возможность выхода из застоя, были охвачены жгучим чувством соревнования и жаждали одного — танцевать еще лучше, чем эти итальянцы3. Перебросить мост суждено было будущему преподавателю театрального училища — Чеккетти. Но и задолго до того, как преподавание в старших классах школы было поручено Энрико Чеккетти, влияние этого блестящего виртуоза начало сильно сказываться на молодых поколениях танцовщиков и танцовщиц труппы Мариинского театра. Выступления его перед петербургской публикой, имевшие столь сильные отголоски в танце нашей труппы, происходили на частной сцене, в саду «Аркадия» в летний сезон 1887 года.

М. Джури в балете «Звезды»

К. Брианца в балете «Спящая красавица»
Танцевал Чеккетти с Лимидо, которая была уже далеко не молода, но тем не менее стояла по-прежнему на вершине своего мастерства. Легат считает ее «величайшей из всех итальянок и одной из величайших танцовщиц всех времен». «Она и Энрико Чеккетти, — говорит он дальше, — были превосходной парой, оба очень маленькие, но грациозные и хорошо сложенные»4. Чеккетти был сильным и ловким кавалером и применял в адажио смелые и неожиданные поддержки («группы», как тогда говорили)5. В вариациях Лимидо блистала во всех трудностях, которыми «щеголяют итальянские балерины»: длительные пиччикато на пуантах, «головоломные туры». О танце же самого Чеккетти долго рассказывать не приходится: у нас сохранился его живой образ в вариации и коде Голубой птицы «Спящей красавицы», сочиненных специально для Чеккетти. Действительно, в Голубой птице собраны все па, которые с величайшими похвалами перечисляют рецензенты, особенно — великолепные полеты, долгие серии антраша; brise коды также чрезвычайно типично для Чеккетти. Сейчас — это привычный номер нашего классического наследия, в восьмидесятых годах, в период расслабленности, расхлябанности рус ской школы танцы Чеккетти ошеломляли. Как мы видели, хорошие русские балерины были всегда, но первого танцовщика у нас не было, его место по-прежнему занимал Гердт, а Гердту было уже за сорок лет.
Как только Чеккетти обосновался в Петербурге, поступив на постоянную службу в Мариинский театр (1887), молодые танцовщицы, жаждавшие усовершенствования, обратились к Чеккетти за частными уроками. Преображенская, Трефи-лова, Кшесинская стали делать поразительные успехи. Но, как всегда, так и тут: новая идея, новое течение в искусстве требуют времени для завоевания места в жизни, и только через десять лет, в 1896 году, Чеккетти был приглашен преподавателем в школу, где он и дал за три года три блестящих ученицы: Седову, Егорову, Билль.

П. Леньяни в балете «Раймонда»
Что такое эта бывшая для нас новостью «итальянская» школа, мы уже имели случай бегло указать выше. Это в сущности «II французская школа», по терминологии, которую мы предлагали (см. табл.). I французская школа, старофранцузская, осталась основным руслом. Она испытала изменения во время французской революции; в этом измененном виде принес ее к нам Дидло, во Франции продол- жали культивировать Огюст Вестрис и Кулон. Эта основная школа подверглась новому влиянию — тальонизму, который и дал начало III французской школе — последнему самостоятельному этапу славного многовекового наследия.
II французская школа — это обострение до конца новых «вкусов», порожденных в театре французской революцией. Из всех данных о балете в началеXIX века следует, думаем, заключить, что создатель этой манеры — Пьер Гардель; а зафиксировал ее с большой точностью ученик его Блазис в 1820 году, когда он работал в Париже и безраздельно воплощал «ампирность» французского танца того времени.

Э. Чеккетти в балете «Катарина, дочь разбойников»
Блазис после долгих скитаний обосновался в 1837 году в Милане7, где и преподавал в школе театра Скала. Тут он обучил, начиная с Карлотты Гризи, всех блестящих виртуозок танца, приезжавших в Россию. Если Гризи принадлежит еще к эпохе тальонизма, Фанни Черрито близка к темпераментному и артистичному танцу Фанни Эльслер, то следующая вереница итальянских гастролерш — Амалия Ферра-рис, Каролина Розати, Клодина Кукки — танцуют уже в другой манере, манере Блазиса, т. е. в манере II французской школы. Ампирная резкость этой манеры, сила и наклонность к трюковому танцу, свойственные издавна итальянским танцовщицам, настолько отличали их школу от далеко ушедшей по другому пути «тальонизирующей» французской школы, что вполне естественно было переименовать II французскую школу в «итальянскую». Это твердо установившееся, всем понятное название, и лишь придирчивость к исторической правде заставляет нас произвести анализ и указать подлинные составные части понятия «итальянская школа» во второй половинеXIX века: французская гарделевско-блазисовская манера, упавшая на почву итальянского темперамента и итальянской наклонности к трюку.
На первом месте среди своих учеников Блазис называет Джовани Лепри, Чеккетти — ученик этого Лепри8. Школа Чеккетти — это школа Блазиса, пропущенная, повторяем, через итальянский темперамент.
Действительно, если мы сравним последовательность такой твердо установленной части урока, как экзерсис у палки, мы увидим, что последовательность Чеккетти разнится от общепринятой французской и совпадает с блазисовской". После плие у Чеккетти делаются сразу большие батманы, после них батманы tendus и т. д., a developpe у палки не делается. Буквально тот же экзерсис у палки приводит и Блазис в своем «Traite elementaire»10. Но это мелкая и внешняя деталь. Более убедительны стилистические особенности поз, зарисованных с самого Блазиса и с ученика Чеккетти, одного из составителей учебника, известного танцовщика Идзиковского. Особенно привлекают внимание арабески и аттитюды; как у Чеккетти, так и у Блазиса они берутся все с очень вертикальным корпусом. Руки и у того и у другого в большинстве поз напряженные, схематичные, редко брошены непринужденно.
Однако в некоторых чертах Чеккетти отошел от блази-совских тради